Модели медицинской этики | Министерство здравоохранения Республики Крым
Более 25 веков в европейской культуре формировались, изменялись различные моральные принципы и правила, сопровождавшие многовековое существование медицины. Различные нравственные регуляторы, функционировавшие на разных этапах развития общества, — религиозные, культурные, этнические, социально-экономические — влияли на формирование этических моделей и в медицине. Учитывая все многообразие врачебного нравственного опыта, можно выделить 4 сосуществующие модели:
Модель Гиппократа (принцип «не навреди»).
Модель Парацельса (принцип «делай добро»).
Деонтологическая модель (принцип «соблюдения долга»).
Биоэтика (принцип «уважения прав и достоинства личности»).
Исторические особенности и логические основания каждой из моделей определяли становление тех моральных принципов, которые составляют сегодня ценностно-нормативное содержание современной биомедицинской этики.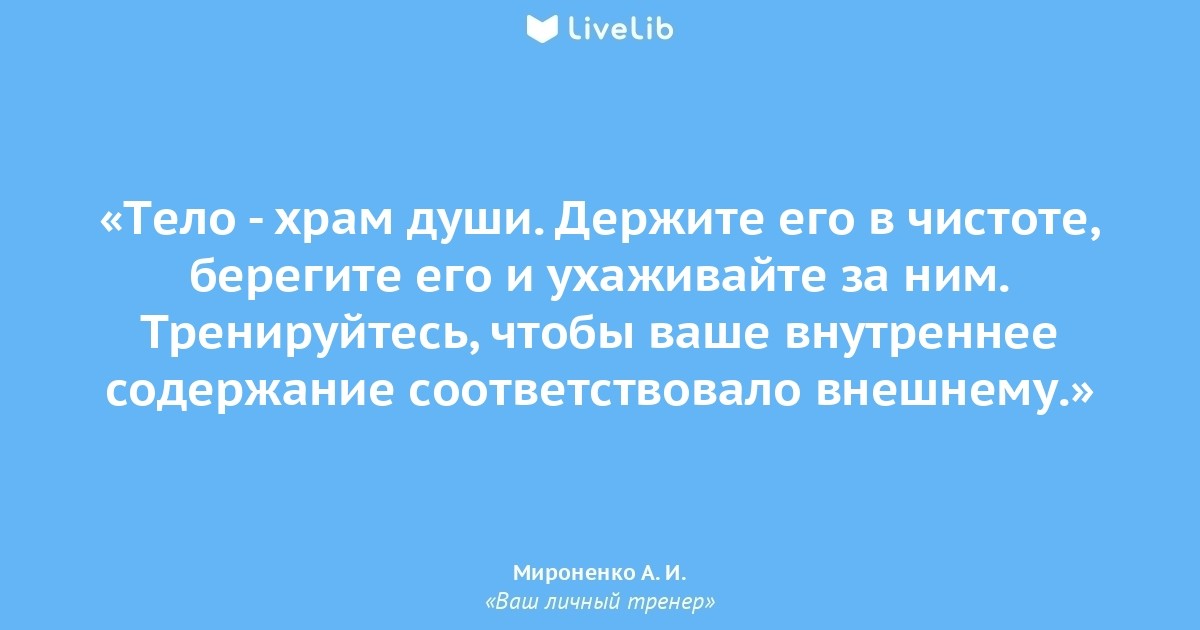
МОДЕЛЬ ГИППОКРАТА
Первой формой врачебной этики были моральные принципы врачевания Гиппократа (460-377 гг. до н. э.), изложенные им в «Клятве», а также в книгах «О законе», «О врачах», «О благоприличном поведении», «Наставления» и др.
В древних культурах — вавилонской, египетской, иудейской, персидской, индийской, греческой — способность врачевать свидетельствовала о «божественной» избранности и определяла элитное, как правило, жреческое положение в обществе.
Считается, что Гиппократ был сыном одного из жрецов бога Асклепия — Гераклида, который дал ему первоначальное медицинское образование. Становление светской медицины в Древней Греции связано с принципами демократии городов-государств, и освященные права врачующих жрецов неизбежно сменялись моральными профессиональными гарантиями и обязательствами лекарей перед страждущими.
Помимо этого этика Гиппократа, что хорошо иллюстрируется «Клятвой», была вызвана необходимостью отмежеваться от врачей-одиночек, разных шарлатанов, которых и в те времена было немало, и обеспечить доверие общества к врачам определенной школы или корпорации асклепиадов.
Практическое отношение врача к больному и здоровому человеку, изначально ориентированное на заботу, помощь, поддержку является основной чертой профессиональной врачебной этики.
Ту часть врачебной этики, которая рассматривает проблему взаимоотношения врача и пациента под углом зрения социальных гарантий и профессиональных обязательств медицинского сообщества, можно назвать «моделью Гиппократа».
Речь шла:
об обязательствах перед учителями, коллегами и учениками,
о гарантиях непричинения вреда («Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от всякого вреда и несправедливости»), оказания помощи, проявления уважения,
об отрицательном отношении к убийству и эвтаназии («Я не дам никакому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла»), абортам («Я не вручу никакой женщине абортивного пессария»),
об отказе от интимных связей с пациентами («В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами»,
У врача с больными немало отношений: ведь они отдают себя в распоряжение врачам, и врачи во всякое время имеют дело с женщинами, с девицами и с имуществом весьма большой цены, следовательно, в отношении всего этого врач должен быть воздержанным»), о врачебной тайне («Что бы при лечении — а также и без лечения я ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной»).

Основополагающим среди перечисленных принципов для модели Гиппократа является принцип «не навреди», который фокусирует в себе гражданское кредо врачебного сословия. Этот принцип формирует исходную профессиональную гарантию, которая может рассматриваться как условие и основание его признания обществом в целом и каждым человеком отдельно, который доверяет врачу свое здоровье и жизнь.
Большое внимание Гиппократ уделял облику врача, не только моральной, но и внешней (одежда, опрятность) респектабельности, что было связано с необходимостью формирования доверия обращающихся к врачебной касте в период перехода от жреческой медицины к светской. Жрецы, за всю историю развития религии, приобрели статус приближенных к богам, считалось, что от них получали они мудрость и наставления, знания и навыки. Врачи же, преодолевшие храмовость, должны были приобретать и обладать такими качествами, которые способствовали бы формированию облика всего врачебного профессионального сообщества того времени. Гиппократ определял эти качества, отталкиваясь от обобщенных ценностей Древней Греции.
Гиппократ определял эти качества, отталкиваясь от обобщенных ценностей Древней Греции.
В книге «О благоприличном поведении» наиболее полно отражено представление об идеале врача, сложившемся в недрах медицинских школ в эпоху греческого «просвещения»: «Каковы они по внешнему виду, таковы и в действительности: врач-философ равен богу».
Гиппократом были определены общие правила взаимодействия врача с пациентом, при этом акцент ставился на поведении врача у постели больного.
При контакте с больным предлагалась такая форма общения, которая способствовала бы ориентации пациента на выздоровление: «Очевидным и великим доказательством существования искусства будет, если кто, устанавливая правильное лечение, не перестанет ободрять больных, чтобы они не слишком волновались духом, стараясь приблизить к себе время выздоровления».
Немаловажным и сложным в этическом отношении был вопрос о вознаграждении врача за оказанную помощь и лечение. В условиях жреческой медицины дары и подношения вручались не самому жрецу, а храму, в котором он служил. При переходе к светской медицине, когда гонораром обеспечивается непосредственно врач, необходимы были соответствующие правила, не нарушающие общую архитектонику врачебной этики: «Лучше упрекать спасенных, чем наперед обирать находящихся в опасности».
При переходе к светской медицине, когда гонораром обеспечивается непосредственно врач, необходимы были соответствующие правила, не нарушающие общую архитектонику врачебной этики: «Лучше упрекать спасенных, чем наперед обирать находящихся в опасности».
МОДЕЛЬ ПАРАЦЕЛЬСА
Второй исторической формой врачебной этики стало понимание взаимоотношения врача и пациента, сложившееся в Средние века.
Выразить ее особенно четко удалось Парацельсу (1493-1541 гг.). Эта форма врачебной этики, в рамках которой нравственные отношения с пациентом понимаются как составляющая стратегии терапевтического поведения врача.
Если в гиппократовской модели завоевывается социальное доверие личности пациента, то «модель Парацельса» — это учет индивидуальных особенностей личности, признание глубины ее душевных контактов с врачом и включенности этих контактов в лечебный процесс. «В Парацельсе мы видим родоначальника не только в области создания химических лекарств, но также и в области эмпирического психического лечения» (Юнг).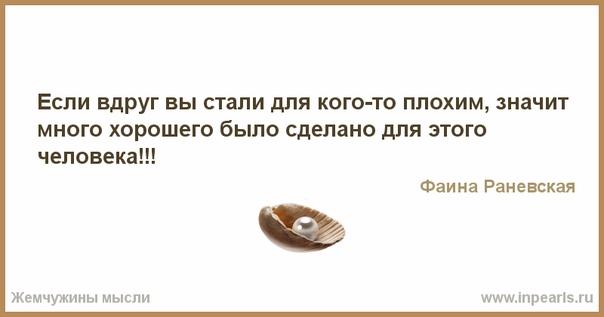
В границах «модели Парацельса» в полной мере развивается патернализм как тип взаимосвязи врача и пациента. Медицинская культура использует латинское понятие pater — «отец», распространяемое христианством не только на священника, но и на Бога. Смысл слова «отец» в патернализме фиксирует, что «образцом» связей между врачом и пациентом являются не только кровнородственные отношения, для которых характерны положительные психоэмоциональные привязанности и социально-моральная ответственность, но и «целебность», «божественность» самого контакта врача и больного.
Неудивительно, что основным моральным принципом, формирующимся в границах данной модели, является принцип «делай добро», благо, или «твори любовь», благодеяние, милосердие.
Врачевание — это организованное осуществление добра. Парацельс писал: «Сила врача — в его сердце, работа его должна руководствоваться Богом и освещаться естественным светом и опытностью; важнейшая основа лекарства — любовь».
Под влиянием христианской антропологии Парацельс рассматривал физическое тело человека «лишь как дом, в котором обитает истинный человек, строитель этого дома». Считается, что христианское понимание души способствовало становлению суггестивной терапии, которую активно применял выдающийся врач XVI в. Кардано, рассматривая ее как необходимую и эффективную составляющую любого терапевтического воздействия. Кардано понял роль фактора доверия и утверждал, что успешность лечения во многом определяется верой пациента во врача: «Тот, кто больше верит, излечивается лучше».
Считается, что христианское понимание души способствовало становлению суггестивной терапии, которую активно применял выдающийся врач XVI в. Кардано, рассматривая ее как необходимую и эффективную составляющую любого терапевтического воздействия. Кардано понял роль фактора доверия и утверждал, что успешность лечения во многом определяется верой пациента во врача: «Тот, кто больше верит, излечивается лучше».
Важность доверительных отношений между врачом и пациентом неоднократно подчеркивалась выдающимися врачами прошлого, еще в VIII в. Абу-ль-Фарадж писал: «Нас трое — ты, болезнь и я; если ты будешь с болезнью, вас будет двое, я останусь один — вы меня одолеете; если ты будешь со мной, нас будет двое, болезнь останется одна — мы ее одолеем».
В конце XIX — начале XX вв. Фрейд десакрализировал патернализм, констатировав либидинозный характер взаимоотношения врача и пациента. Его понятия переноса и контрпереноса являются средством теоретического осмысления сложного межличностного отношения между врачом и пациентом в психотерапевтической практике. Фрейд полагал, что всякий психотерапевт, а деятельность врача любой специальности включает в себя психотерапевтическую компоненту, «должен быть безупречным, особенно в нравственном отношении».
Фрейд полагал, что всякий психотерапевт, а деятельность врача любой специальности включает в себя психотерапевтическую компоненту, «должен быть безупречным, особенно в нравственном отношении».
Фрейд писал не только о «безупречности» как теоретически выверенной стратегии терапевтического поведения, основывающегося на особенностях природы лечебной деятельности, но и «безупречности» как почти механической точности соответствия поведения врача тем или иным нормативам этических требований.
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Впервые термин «деонтология» («deontos» — должное, «logos» — учение) ввел английский философ Бентам (1748-1832), обозначая этим понятием науку о долге, моральной обязанности, нравственного совершенства и безупречности.
Деонтология особенно важна в той профессиональной деятельности, где широко используются сложные межличностные взаимовлияния и ответственные взаимодействия.
В медицине это соответствие поведения врача определенным этическим нормативам. Это деонтологический уровень медицинской этики, или «деонтологичекая модель», опирающаяся на принцип «соблюдения долга».
Это деонтологический уровень медицинской этики, или «деонтологичекая модель», опирающаяся на принцип «соблюдения долга».
Основой деонтологии является отношение к больному таким образом, каким бы в аналогичной ситуации хотелось, чтобы относились к тебе. Глубокую сущность деонтологии врачевания раскрывает символическое высказывание голландского врача XVII в. ван Туль-Пси: «Светя другим, сгораю сам».
Термин «деонтология» ввел в советскую медицинскую науку в 40-х годах XX в. Петров для обозначения реально существующей области медицинской практики — врачебной этики, — которая была «отменена» в России после революции 1917 г. за ее связь с религиозной культурой.
Деонтологическая модель врачебной этики — это совокупность «должных» правил (соизмерение, соблюдение себя с «должным» и осуществление оценки действия не только по результатам, но и по помыслам), соответствующих той или иной конкретной области медицинской практики.
Деонтология включает в себя вопросы:
соблюдения врачебной тайны,
меры ответственности за жизнь и здоровье больных,
взаимоотношений в медицинском сообществе,
взаимоотношений с больными и их родственниками.

Так, примером этой модели являются правила относительно интимных связей между врачом и пациентом, разработанные Комитетом по этическим и правовым вопросам при Американской медицинской ассоциации (JAMA, 1992, № 2):
интимные контакты между врачом и пациентом, возникающие в период лечения, аморальны;
интимная связь с бывшим пациентом может в определенных ситуациях признаваться неэтичной;
вопрос об интимных отношениях между врачом и пациентом следует включить в программу обучения всех медицинских работников;
врачи должны непременно докладывать о нарушении врачебной этики своими коллегами.
Как видно, характер рекомендаций достаточно жесткий, и очевидно, что их нарушение может повлечь за собой дисциплинарные и правовые последствия для врачей, которых объединяет данная Ассоциация.
«Соблюдать долг» — это значит выполнять определенные требования. Недолжный поступок — тот, который противоречит требованиям, предъявляемым врачу со стороны медицинского сообщества, общества, собственной воли и разума.
Когда правила поведения открыты и точно сформулированы для каждой медицинской специальности, принцип «соблюдения долга» не признает оправданий при уклонении от его выполнения.
Идея долга является определяющим, необходимым и достаточным основанием действий врача. Если человек способен действовать по безусловному требованию «долга», то такой человек соответствует избранной им профессии, если нет, то он должен покинуть данное профессиональное сообщество.
Наборы «точно сформулированных правил поведения» разработаны практически для каждой медицинской специальности и представляют собой перечень и характеристику этих правил по всем медицинским областям.
К середине XX в. медицинская деонтология становится интернациональной — появляются международные документы, регламентирующие поведение врача: Женевская декларация (1948), Международный кодекс медицинской этики (Лондон, 1949), Хельсинская декларация (1964), Токийская декларация (1975) и др.
БИОЭТИКА
В 60-70-х гг.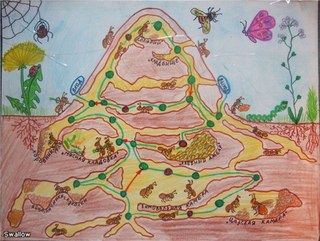 XX в. формируется новая модель медицинской этики, которая рассматривает медицину в контексте прав человека.
XX в. формируется новая модель медицинской этики, которая рассматривает медицину в контексте прав человека.
Термин «биоэтика» (этика жизни), который был предложен Ван Ренселлером Поттером в 1969 г., который раскрывается как «систематические исследования поведения человека в области наук о жизни и здравоохранении в той мере, в которой это поведение рассматривается в свете моральных ценностей и принципов».
Основным моральным принципом биоэтики становится принцип «уважения прав и достоинства личности».
Под влиянием этого принципа меняется решение «основного вопроса» медицинской этики — вопроса об отношении врача и пациента. Сегодня остро стоит вопрос об участии больного в принятии врачебного решения. Это далеко не «вторичное» участие оформляется в новых типах взаимоотношения врача и больного — информационный, совещательный, интерпретационный типы являются по своему формой защиты прав и достоинства человека.
В современной медицине обсуждают не только помощь больному, но и возможности управления процессами патологии, зачатия и умирания с весьма проблематичными физическими и метафизическими (нравственными) последствиями этого для человеческой популяции в целом.
Медицина, работающая сегодня на молекулярном уровне, становится более «прогностической». Доссе (французский иммунолог и генетик) считает, что прогностическая медицина «поможет сделать жизнь человека долгой, счастливой и лишенной болезней». Только одно «но» стоит на пути этой светлой перспективы: «лицо или группа лиц, движимых жаждой власти и нередко зараженных тоталитарной идеологией». Прогностическую медицину еще можно определить как бессубъектную, безличностную, то есть способную к диагностированию без субъективных показателей, жалоб и пациента. И это действительно реальный и безпрецедентный рычаг контроля и власти как над отдельным человеческим организмом, так и над человеческой популяцией в целом.
Биоэтика — это современная форма традиционной профессиональной биомедицинской этики, в которой регулирование человеческих отношений подчиняется сверхзадаче сохранения жизни человеческого рода.
Регулирование отношений со сверхзадачей сохранения жизни непосредственно связано с самой сутью и назначением морали вообще.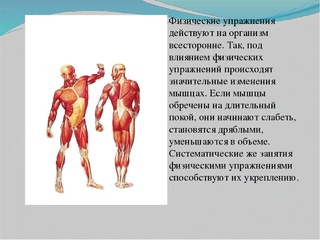 Сегодня «этическое» становится формой защиты «природно-биологического» от чрезмерных притязаний культуры к своим естественно-природным основаниям.
Сегодня «этическое» становится формой защиты «природно-биологического» от чрезмерных притязаний культуры к своим естественно-природным основаниям.
Биоэтика (этика жизни) как конкретная форма «этического» возникает из потребности природы защитить себя от мощи культуры в лице ее крайних претензий на преобразование и изменение «природно-биологического».
Начиная с 60-70-х гг. XX в., как альтернатива патернализму, все большее распространение приобретает автономная модель, когда пациент оставляет за собой право принимать решения, связанные с его здоровьем и медицинским лечением.
В этом случае врач и пациент совместно разрабатывают стратегию и методы лечения. Врач применяет свой медицинский опыт и дает разъяснения относительно прогнозов лечения, включая альтернативу нелечения; пациент, зная свои цели и ценности, определяет вариант, который больше всего соответствует его интересам и планам на будущее.
Таким образом, вместо патерналистской модели защиты и сохранения жизни пациента, в настоящее время на первый план выходит принцип благополучия пациента, который реализуется доктриной информированного согласия — самоопределение пациента зависит от степени его информированности.
Врач обязан снабдить больного не только всей интересующей его информацией, но и той, о которой, в силу своей некомпетентности, пациент может не подозревать. При этом решения пациента носят добровольный характер и соответствуют его собственным ценностям. Из этого и вытекает нравственный стержень взаимоотношений «врач-пациент» в биоэтике — принцип уважения личности.
Большое значение приобретает также вопрос об определении начала и конца жизни. (См. Эвтаназия)
Конфликт «прав», «принципов», «ценностей», а по сути человеческих жизней и судеб культуры — реальность современного общества.
Конфликт «права плода на жизнь» и «права женщины на аборт», или правовое сознание пациента, восходящее до осознания «права на достойную смерть», вступающее в противоречие с правом врача исполнить не только профессиональное правило «не навреди», но и заповедь — «не убий».
В отношении аборта как уничтожения того, что может стать личностью, существует три нравственных позиции:
консервативная — аборты всегда аморальны и могут быть разрешены лишь при угрозе жизни женщины;
либеральная — умеренная — абсолютное право женщины на аборт, безотносительно к возрасту плода
и умеренная — оправдание аборта до наступления определенного развития эмбриона (до стадии развивающегося плода — 12 недель, когда ткань мозга становится электрически активной).

Активность мозга служит также и критерием смерти. Современная интенсивная терапия способна поддерживать жизнь пациентов, не способных ни к самостоятельному дыханию, ни к мыслительным процессам. Поэтому возникают новые нравственные проблемы, связанные с пациентами, находящимися на грани жизни и смерти.
Вопрос об эвтаназии обычно возникает, когда пациент необратимо утратил сознание; умирая, испытывает интенсивные непереносимые страдания, вынуждающие медиков поддерживать пациента в полубессознательном состоянии или когда новорожденный имеет анатомические и физиологические дефекты, несовместимые с жизнью.
Существует большой диапазон мнений: от полной легализации права врача прерывать жизнь больного с его согласия («активная эвтаназия»), до полного неприятия эвтаназии как акта, противоречащего человеческой морали.
Существует вариант так называемой «пассивной эвтаназии», когда используется принцип нелечения, исключающий сам акт умерщвления (отключение искусственных систем, обеспечивающих жизнедеятельность, прекращение введения лекарственных препаратов и т. д.).
д.).
Этические проблемы аборта и эвтаназии связаны с моральными аспектами репродукции и трансплантации. Современная технология репродукции жизни определяет качественно новые формы взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, биологическими и социальными родителями. Трансплантология открывает новые проблемы определения грани жизни и смерти из-за моральной альтернативы спасения жизни реципиенту и ответственностью за возможное убийство обреченного на смерть донора.
В 90-х гг. XX в. биоэтика стала понятием, включающем всю совокупность социально-этических проблем современной медицины, среди которых одной из ведущих оказывается проблема социальной защиты права человека не только на самоопределение, но и на жизнь. Биоэтика играет важную роль в формировании у общества уважения к правам человека.
Юдин полагает, что «биоэтику следует понимать не только как область знаний, но и как формирующийся социальный институт современного общества». Конкретной формой разрешения возможных противоречий в области биомедицины являются биоэтические общественные организации (этические комитеты), объединяющие медиков, юристов, специалистов по биоэтике, священников и др. , обеспечивающие разработку рекомендаций по конкретным проблемным ситуациям медико-биологической деятельности, будь то ее теоретическая или практическая сторона.
, обеспечивающие разработку рекомендаций по конкретным проблемным ситуациям медико-биологической деятельности, будь то ее теоретическая или практическая сторона.
Исторический и логический анализ развития этики врачевания приводит к следующему выводу:
Современной формой медицинской этики является биомедицинская этика, работающая ныне в режиме всех четырех исторических моделей — модели Гиппократа и Парацельса, деонтологической модели и биоэтики. Связь научно-практической деятельности и нравственности — одно из условий существования и выживания современной цивилизации.
чем обернется для человечества зависимость от гаджетов — Российская газета
Никогда ещё симбиоз человека с машиной не был столь сильным и всеобъемлющим. Умный помощник незаменим, но вместе с небывалыми возможностями мы носим в кармане список «побочек»: нарушения общения и внимания, депрессию и тревожность, проблемы со сном и работоспособностью, даже плохую осанку. У нас предостаточно поводов отложить смартфон в сторону — вот только делаем мы это всё реже. Разбираемся, чем опасна главная зависимость эпохи — злоупотребление смартфоном. И насколько вы, дорогой читатель, стали её жертвой.
Разбираемся, чем опасна главная зависимость эпохи — злоупотребление смартфоном. И насколько вы, дорогой читатель, стали её жертвой.
Здравствуйте, меня зовут Маша, я номофоб. Я чувствую тревогу, когда не могу найти свой телефон, он разрядился или оказался вне зоны покрытия сети. Даже если сотовый сигнал просто слабоват — меня это раздражает.
Не стоит сочувствовать! По статистике, больше половины читающих — тоже номофобы. Nomophobia — сокращение от no mobile-phone phobia, боязнь остаться без смартфона, — становится самой популярной болезнью десятилетия: ей подвержены почти 70% пользователей.
Выявление номофоба в домашних условиях:
Унесите телефон в соседнюю комнату и оставьте цифрового товарища поскучать в одиночестве час-другой. Как ощущения? Соображение «А вдруг я не ответил на важное сообщение?» не даёт покоя? Как быстро появилось липкое желание достать смартфон из заточения и погладить его остывший сенсорный экран? То, что вы чувствуете, называется сепарационной тревогой.
 Примерно это же испытывает маленький ребёнок, когда теряет любимого плюшевого мишку.
Примерно это же испытывает маленький ребёнок, когда теряет любимого плюшевого мишку.Здравствуй, зависимость
Утро начинается с проверки пиксельного экрана: 80% людей хватают гаджет уже в первые 15 минут после пробуждения. За завтраком рука сама тянется к смартфону полистать новости. По дороге на работу или учёбу мы включаем музыку и проверяем соцсети. В офисе ныряем в электронную почту и мессенджеры. Вернувшись домой, смотрим смешные видосы и читаем цифровые книги. Мы клацаем по экрану весь день до поздней ночи. Лишь после установки будильника на смартфоне (а на чём же ещё?!) нам удаётся на несколько часов отлепить пальцы от сенсора.
За день обычный пользователь касается своего телефона 70-150 раз. А половина людей проверит его ещё и посреди ночи. В опросе компании беспроводной связи iPass каждый десятый взрослый признался, что залезает в ненаглядный смартфон даже во время секса. Мы официально вступили в эру цифровой зависимости.
Что поделаешь! В коробочке с микросхемами поселились общение с друзьями и семьей, работа, книги, музыка, даже поход по магазинам. Телефоны вытеснили будильники, фотоаппараты, справочники, карты и деньги. Гаджеты незаменимы, и мы на них плотно подсели.
Телефоны вытеснили будильники, фотоаппараты, справочники, карты и деньги. Гаджеты незаменимы, и мы на них плотно подсели.
— ВКонтакте — это друзья, в Телеграме удобно обмениваться файлами вроде учебной литературы, в Ватсапе рабочая переписка, а в Инстаграме я черпаю вдохновение для своего хобби — фотографии, — перечисляет знакомый гаджетоман Максим. — Но меня это беспокоит. Иногда так накрывает, что я каждые пару минут проверяю уведомления. Кажется, на телефон я трачу часа два в день.
Максим, скорее всего, недооценивает свою цифровую одержимость. В среднем мы проводим, уткнувшись в смартфон, чуть больше трёх часов в день. За неделю набираются почти целые сутки. Психологи считают, что зависимость становится серьёзной проблемой начиная где-то с пяти часов в день. А сколько времени в обнимку с гаджетом проводите вы, пробовали измерить?
45 суток, или полтора месяца, проводит ежегодно в смартфоне средний пользователь
Внимание, заговор!
Кто виноват, что мы вязнем в сетях? Правильно, современные цифровые продукты намеренно ломают механизмы нашей саморегуляции! Ведь успе мобильного приложения определяется временем, которое в нём проводят пользователи. Как у игрового автомата: чем дольше зависают игроки, тем прибыльнее для казино. Смартфоны научились у азартных игр ещё одному трюку: непредсказуемый результат действует на человека как магнит.
Как у игрового автомата: чем дольше зависают игроки, тем прибыльнее для казино. Смартфоны научились у азартных игр ещё одному трюку: непредсказуемый результат действует на человека как магнит.
— Если в эксперименте собаке после звонка то дают еду, то не дают, животное будет стабильно реагировать на звонок. Просто на всякий случай — а вдруг в этот раз что-то вкусное? — рассказывает Екатерина Виноградова, доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии биологического факультета СПбГУ. — Рефлекс с вероятностным подкреплением закрепляется лучше всего. Так и у человека: он ведь не может предугадать, что получит взамен на прикосновение к экрану — лайк или гневное письмо от босса.
Мы добровольно таскаем в кармане казино, которое выдаёт вознаграждение по непредсказуемому графику. Мозг, чтобы не упустить награду, не выключает систему подкрепления, шепчущую: «Ты сейчас сделал что-то хорошее, взгляни ещё раз». И мы покорно, как собаки Павлова, снова и снова откликаемся на треньканье смартфона.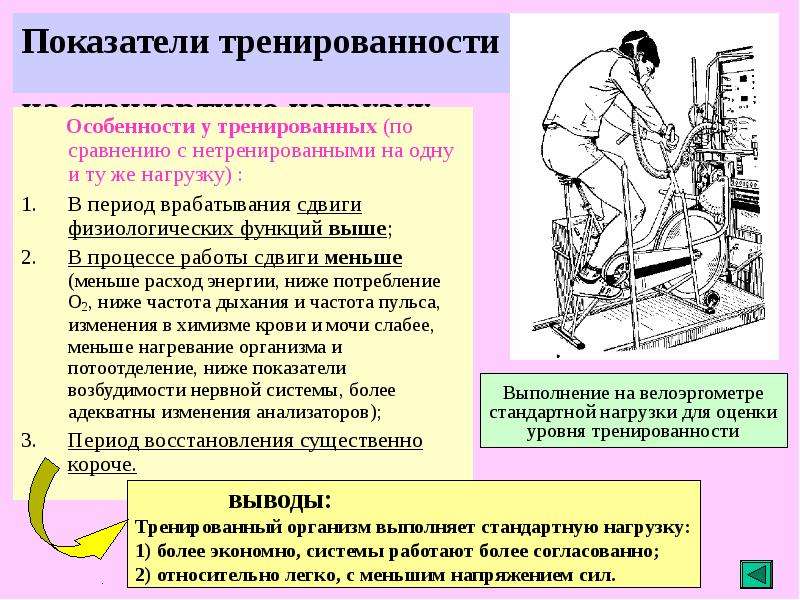
Дофамин за лайки
Система подкрепления — это управляющая нашим поведением система мотивации. Она работает на дофамине — вызывающем эйфорию веществе, которое мозг выбрасывает, когда мы достигаем успеха или хотя бы приближаемся к нему. Нейробиологи обнаружили, что дофаминовый всплеск мы получаем и за счёт цифровых стимулов.
Попались?!
Мало что нравится нам так же сильно, как рассказывать о себе. Профиль в соцсети становится дневником и социальным лицом человека.
— Исследование показало, что, когда добровольцы рассказывали о себе, система удовольствия в мозге реагировала даже ярче, чем на денежное вознаграждение, — говорит Екатерина Виноградова. — В реальной жизни нам редко удаётся поговорить о себе. А гаджеты и соцсети дают эту возможность в неограниченном количестве. И неважно даже, слушает нас там кто-то или нет. Кроме того, мы утоляем жажду самоидентификации, одну из основных потребностей человека. В сети легко найти себе группу, форум или игру, к которым можно примкнуть и получить признание у местного онлайн-сообщества.
Древние инстинкты велят человеку угождать племени. Лайки просто перевели инстинкт в другую плоскость: мы стремимся угодить онлайн-племени и тревожимся, когда это не удаётся. Раньше самоутверждались в учёбе, работе или личных отношениях, теперь подпитываемся лайками и комментариями. Заполучить лайк ведь легче. И мы заботливо выращиваем своего цифрового клона.
— Побочный эффект, создающий дискомфорт при постоянном использовании соцсетей, — ощущение, что все вокруг крайне успешны: путешествуют, ходят на концерты, а мне и похвастаться нечем. На фоне чужих успехов собственные достижения кажутся незначительными, — рассказывает Екатерина Лапина-Кратасюк, доцент НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, соавтор исследования влияния цифровых технологий на городских жителей. — Это ощущение социальной неполноценности держится на наивном убеждении, что картинка, которую мы видим в соцсетях, — отражение реальности. А ведь персональная страничка — это тщательный монтаж отобранных сюжетов и образов. Но буквально каждый пользователь чувствует себя менее успешным, чем его друзья, и всё более усердно редактирует свой цифровой образ в соответствии со стереотипами успешности. Это в свою очередь усиливает ощущение неуверенности в себе у других и подстёгивает их ещё более ответственно подходить к делу формирования имиджа в соцсетях. Круг замкнулся.
Но буквально каждый пользователь чувствует себя менее успешным, чем его друзья, и всё более усердно редактирует свой цифровой образ в соответствии со стереотипами успешности. Это в свою очередь усиливает ощущение неуверенности в себе у других и подстёгивает их ещё более ответственно подходить к делу формирования имиджа в соцсетях. Круг замкнулся.
Пузырь фильтров
Алгоритмы, следящие за нашим поведением в Сети, формируют персонализированную рекламу и содержание новостной ленты. Скажем, если изображать приверженца здорового образа жизни, по пятам будет следовать реклама спортклубов и фитнес-добавок, посты о тренировках и диетах. Остальное отфильтровывается, и пользователь не видит ничего за пределами специально созданного для него информационного пузыря. Попались?
Одиночество вместе
От гаджета трудно сбежать ещё и потому, что это жутко удобный инструмент общения, позволяющий дружбе и любви мгновенно преодолевать расстояния. Впервые в истории люди могут всегда поддерживать связь и никогда не теряться. Именно потерей связи с близкими большинство оправдывает свой cтрах остаться без телефона. Так что номофобия — это монофобия (боязнь остаться одному) под прикрытием.
Именно потерей связи с близкими большинство оправдывает свой cтрах остаться без телефона. Так что номофобия — это монофобия (боязнь остаться одному) под прикрытием.
— Гаджеты создают возможности для социальной связанности, — объясняет антрополог Андрей Возьянов, лектор Европейского гуманитарного университета (Вильнюс) и соавтор исследования о влиянии цифровизации на жителей городов. — Цифровое пространство в каком-то смысле становится для нас домом: где бы ты ни был, всё те же друзья пишут тебе в мессенджерах, в ленте соцсетей видишь фото знакомых. Появляются новые способы общаться и проявлять внимание. Если я скинул кому-либо ссылку на новый музыкальный клип, то я вроде как показал собеседнику, что помню о нём и о его вкусах. Кроме того, мне кажется, соцсети и гаджеты позволяют проводить новые градации общения. Есть уровень, когда кто-то смотрит ваши фото в Инстаграме, а вы смотрите его. Вы не переписываетесь, но представляете, что происходит в жизни друг друга. Кто-то ещё и ставит лайки, а кто-то пишет комментарии. На следующем уровне вы уже регулярно обмениваетесь сообщениями.
На следующем уровне вы уже регулярно обмениваетесь сообщениями.
— Общение меняется. Когда мы начали активно пользоваться соцсетями, разговоры переехали в чаты, общение стало письменным, — дополняет Дмитрий Соловьёв, медиааналитик и один из идеологов цифрового детокса в России. — Оно лишилось невербальной составляющей, поэтому люди стали додумывать то, чего не было: наделять слова настроением, высматривать интонации. Знаете шутку «Вам не поставили смайлик в сообщении — вас ненавидят»? Поэтому появились стикеры, эмодзи — они передают наши цифровые эмоции. Появился этикет цифрового общения: скажем, если ты просмотрел сообщение, нужно на него ответить. Если времени на ответ нет, оставь сообщение непрочитанным. Это удобно: бывает так, что собеседник занят своими делами и не готов выслушать наше сообщение.
— Когда у меня была нехватка живого общения, я замещала его видео в Инстаграме, на которых болтала обо всём подряд, — рассказывает мне Лера, девушка, с которой мы когда-то учились, а теперь следим друг за другом в соцсетях. — Снимая их, я как будто оставалась на связи c людьми. Когда плохо себя чувствовала эмоционально, просто писала всем подряд. Иногда сети становятся основной площадкой общения. Скажем, друзья, которые живут за границей, узнают о моей жизни только оттуда. Да и родители порой.
— Снимая их, я как будто оставалась на связи c людьми. Когда плохо себя чувствовала эмоционально, просто писала всем подряд. Иногда сети становятся основной площадкой общения. Скажем, друзья, которые живут за границей, узнают о моей жизни только оттуда. Да и родители порой.
— В цифровом мире легче выстроить общение: просто оказываешь знаки внимания, одним щелчком выставляя лайк. А в диалоге можно хорошенько продумать, что ты собираешься сказать, — продолжает Екатерина Виноградова. — Даже ссоры в онлайне не так сильно задевают. Из-за этой простоты и происходит замещение социальных взаимодействий на их цифровую копию.
И это серьёзное испытание для реального общения. Вместо того чтобы поддерживать разговор, мы постоянно отвлекаемся на мобильные устройства. Проводим вечер в Сети, вместо того чтобы гулять с друзьями. Мы привыкаем быть одинокими вместе: вцепились в телефоны, потому что боимся остаться одни, и — остаёмся, потому что очень крепко держимся.
8% людей боятся потерять смартфон по противоположной страху одиночества причине: они переживают, что не смогут сделать вид, будто заняты, когда не захочется разговаривать. Эти данные опроса «Лаборатории Касперского» и аналитической компании Opeepl свидетельствуют, что люди всё чаще прикрывают телефоном нежелание общаться.
Эти данные опроса «Лаборатории Касперского» и аналитической компании Opeepl свидетельствуют, что люди всё чаще прикрывают телефоном нежелание общаться.
Источник стресса или спасение от стресса?
Потоки писем и сообщений преследуют нас всюду, и кажется, если не ответили тут же — опоздали. Если ответ собеседника запаздывает, в голову заползают тревожные мысли: «Он занят? Или он на меня зол? Что-то случилось, раз он не может сейчас же ответить!» Зная, какие терзания вызовет промедление в онлайн-общении, мы стараемся настрочить ответ поскорее, максимум до конца дня.
— Рабочая переписка сейчас перетекает из электронной почты в мессенджеры, и ожидаемое время реакции становится намного меньше. Если в почте это, условно говоря, не более двух суток, то в мессенджерах — пара часов, — говорит Андрей Возьянов.
Врач-эндокринолог Роберт Лустиг считает, что человеческий организм не успел приспособиться к этим высокотехнологичным реалиям. При очередном уведомлении у человека начинают вырабатываться гормоны стресса, мышцы сокращаются, а сердце бьётся чаще. Только вот стрессовый ответ эволюция придумала, чтобы помочь нам избежать опасности, а не отвечать на сообщение от коллеги.
Только вот стрессовый ответ эволюция придумала, чтобы помочь нам избежать опасности, а не отвечать на сообщение от коллеги.
Пока телефоны повышают уровень стресса, они угрожают здоровью. С высоким уровнем одного из гормонов стресса, кортизола, учёные связывают риск развития депрессии, ожирения, диабета второго типа, высокого кровяного давления, сердечных приступов, деменции и инсульта.
Впрочем, смартфон может оказаться не только источником стресса, но и способом с ним справиться.
— Стресс — это прежде всего реакция организма на новизну: непривычную ситуацию, незнакомый стимул, — рассказывает Екатерина Виноградова. — Смартфон привычен и поэтому не может быть сильным источником стресса, даже со всеми своими уведомлениям. Более того, он помогает с ним бороться. Стрессовые ситуации неприятны тем, что в голове нет программы, как с ними справиться, обычные способы действия не подходят. Но хотя вы не знаете, что делать, потребность что-то делать не пропадает. Напряжение растёт и наконец выплёскивается в виде привычных действий, которые в данной ситуации не имеют смысла. Это называется смещённым поведением. Мышь в стрессовой ситуации начинает зачем-то вылизывать шёрстку. Человек суетится, стучит пальцами, перекладывает что-то. Вертеть в руках смартфон — тоже форма смещённого поведения. С другой стороны, сейчас сформировалась искусственная потребность проверять гаджет. А невозможность эту потребность реализовать, потому что аккумулятор сел или ситуация не располагает, уже может стать источником стресса.
Это называется смещённым поведением. Мышь в стрессовой ситуации начинает зачем-то вылизывать шёрстку. Человек суетится, стучит пальцами, перекладывает что-то. Вертеть в руках смартфон — тоже форма смещённого поведения. С другой стороны, сейчас сформировалась искусственная потребность проверять гаджет. А невозможность эту потребность реализовать, потому что аккумулятор сел или ситуация не располагает, уже может стать источником стресса.
Издевательства над студентами
В эксперименте кафедры психологии Дублинской школы бизнеса было показано, что уровень тревожности студентов растёт при уменьшении заряда аккумулятора в телефоне. Стоило заряду упасть ниже 40% — и участникам становилось не по себе. В другом исследовании добровольцы слышали звук уведомлений, пришедших на телефон, но не могли его проверить. Из-за этой чудовищной пытки у них поднималось кровяное давление.
Расплата за многозадачность
Иногда мы и вправду не знаем, как перестать тыкать в экран. Это же непродуктивно! Мы выжимаем из себя и своего смартфона максимум — в любое время, в любом месте. Если уж торчать в пробке на работу, то с пользой: просмотреть электронную почту. Где-то между станциями метро заказываем еду на дом. И надо успевать лайкать, а то друзья обидятся! Гаджеты подарили нам ещё одну иллюзию: мы можем всё успеть.
Если уж торчать в пробке на работу, то с пользой: просмотреть электронную почту. Где-то между станциями метро заказываем еду на дом. И надо успевать лайкать, а то друзья обидятся! Гаджеты подарили нам ещё одну иллюзию: мы можем всё успеть.
— В 2016 году, когда мы занимались изучением аудитории, смартфон вызывал у наших респондентов положительные чувства. Он воспринимался как нечто принадлежащее только тебе, расширяющее твоё пространство и свободы, — рассказывает Екатерина Лапина-Кратасюк. — Речь в том числе шла о том, что гаджеты дают возможность эффективнее использовать время. Например, у пассажиров общественного транспорта пропадало ощущение вычеркнутых из жизни часов. Ещё в доцифровую эпоху появилось понятие «транзитные пространства» — это такие пространства перехода из одной точки в другую, в которых городской житель теряет время впустую. Появление смартфонов изменило ситуацию. Респонденты отмечали, что гаджеты позволяют им находиться одновременно везде, выполнять сразу несколько задач, быть в курсе событий, делать то, что раньше они не успевали, — например, читать.
— В то же время гаджеты способствуют тому, что внимание человека быстро переключается. В смартфоне вы перемещаетесь из приложения в приложение, на ноутбуке — бегаете между миллионом открытых вкладок, — продолжает Андрей Возьянов. — Этот характерный для современных людей симптом ещё называют заппингом — первоначально так обозначали быстрое бесцельное переключение телеканалов с пульта, но сейчас значение слова расширилось.
Но можем ли мы быть многозадачными? Ведь мозг — прожорливый орган: он с удовольствием лопает четверть всей потребляемой нами энергии. Мозг — дорогостоящий и ограниченный ресурс, силы которого приходится экономить. И поэтому 97,5% людей неспособны, как Цезарь, выполнять несколько задач сразу. Приходится постоянно дёргать «переключатель задач» в мозге. Но каждый раз, когда человек отвлекается, чтобы, например, посмотреть что-то на смартфоне, мозговая активность прерывается. Эту паузу называют «ценой переключения». Иногда временная задержка — всего десятые доли секунды. Но за день беготни между задачами, переписками и лайками мы платим приличную цену.
Но за день беготни между задачами, переписками и лайками мы платим приличную цену.
— Правда в том, что в современном мире мы не вольны выбирать, быть многозадачными или нет, — говорит Константин Фрумкин, философ и культуролог, координатор Ассоциации футурологов. — Это не мы выбрали многозадачность, это она нас нашла. И раз уж она пришла, то надо приспосабливаться. В этом смысле хорошо, что мы переключаемся всё лучше.
— Я думаю, что даже в плане новых условий труда многозадачность из возможности и навыка превращается в требование, — соглашается Андрей Возьянов.
Может быть, мы научимся успешно функционировать в многозадачном мире. Вместе с появлением первого смартфона родилось и новое поколение людей, для которых многозадачность естественна. Современные подростки живут в эпоху небывалой сложности, неопределённости и многообразия. Старые пути решения задач перестают работать. Пробуя и ошибаясь, мы нащупываем новую модель поведения — сетевую. Учимся распределять свои ограниченные когнитивные ресурсы: отличать главное от второстепенного, планировать и ставить цели, гибко реагировать.
40% времени продуктивной работы мозга может отбирать попытка выполнять несколько задач одновременно, по данным исследований психолога Дэвида Мейера
Ленивый мозг
С ростом количества задач мозгу приходится всё тщательнее выбирать, на что расходовать драгоценную энергию. Чтобы снизить затраты, он элементарно ленится делать то, с чем справится смартфон. Когда вы в последний раз вычисляли в столбик или заучивали наизусть номер телефона? Появился термин «эффект гугла»: когда вся информация мира находится в поисковиках, пользователь начинает страдать от цифровой амнезии и всё меньше запоминает.
— Дело не только в том, что гугл заменил нам эрудицию, — продолжает Константин Фрумкин. — Сейчас человеческая память в принципе неспособна охватить всю информацию. В XX веке мог существовать такой персонаж, как эрудит, имевший важнейшие сведения по очень широкому спектру вопросов. Этот персонаж был адекватен потребностям общества, когда знаний было меньше, они реже актуализировались и пополнялись. Я думаю, всё медленно идёт к тому, что, передав поисковикам способность помнить и запоминать, мы будем специально решать головоломки для поддержания тонуса мозга. Так же как из-за менее активного, чем у предков, образа жизни мы занимаемся спортом. Но спорт нужен не для того, чтобы таскать кирпичи. И тренировка памяти будет нужна не для работы, а просто чтобы держать мозг в форме.
Бесконечный поток информации с гаджета ещё и ставит постоянно человека перед выбором: посложнее или попроще? Можно прочитать длинную статью, а можно полистать ленту в поисках мемов. Мозг, скорее всего, выберет второе. Но он (и мы!) не виноваты, ведь это эволюция научила экономить ресурсы. Так что выбор «попроще» очевиден, а всё, что «посложнее», откладывается на потом, которое может и не наступить.
Информационная перегрузка и технологии мгновенного доступа к знаниям превращают нас в людей-«блинчиков». Вместо того чтобы собирать в голове сложную конструкцию из знаний и культурного наследия — расползаемся тонким поверхностным слоем по обширной сети информации, доступ к которой находится на расстоянии клика.
Скачем по верхам
Учёные Университетского колледжа Лондона пять лет наблюдали за привычками пользователей ресурсов, предоставляющих доступ к статьям и электронным книгам. Оказалось, почти всегда люди снимают лишь поверхностный слой информации: пробегаются по заголовкам и краткому содержанию, читают одну-две страницы — и перескакивают на что-то другое.
А может, и нет
В отношениях со смартфонами не всё беспросветно плохо. Многие страшилки сейчас честнее заканчивать фразой «а может, и нет». Нередко исследования влияния гаджетов на человека не обладают статистической убедительностью, потому что участвовало слишком мало добровольцев. А иногда учёные идут на поводу у желания подтвердить самые пугающие гипотезы.
Смартфоны делают нас одинокими? А может, и нет. Обширные исследования показывают, что экран становится продолжением общения в реале: в онлайн-пространстве точно так же бурлят и разрешаются конфликты, оказывается поддержка, проявляется привязанность. Люди используют смартфоны, чтобы укрепить дружбу или компенсировать её недостаток в сложных ситуациях. Например, исследование подростков, находящихся в приёмных семьях, показало, что соцсети и гаджеты помогали молодым людям поддерживать отношения с родителями, заводить новых друзей и смягчали стрессовый процесс взросления.
У нас нет однозначных ответов — но в обществе гудит тревога.
— Новые технологии сначала вызывают опасения: так было со станками, автомобилем, телевидением, даже с книгой, — рассказывает Екатерина Лапина-Кратасюк. — Но эти опасения, как правило, мистического толка, они не основаны на фактах. Когда преодолён первый барьер недоверия, возникает эйфория от возможностей, которые открывают технологии, общественное отношение меняется на оптимистичное и некритичное. А на следующем этапе — просто потому, что накоплен индивидуальный опыт пользователей, — становится очевидной и оборотная сторона технологий. В итоге это приводит к более осознанному отношению к рискам, с ними связанным.
— Беспокойство, которое сейчас наблюдается, — это интуитивное ощущение, что смартфоны таят опасность. Но утверждать это наверняка мы не можем, — соглашается Константин Фрумкин. — Эта опасность неочевидна. А теоретические рассуждения не вынуждают к серьёзному противодействию. С любой технологией получается так, что правила безопасности пишутся кровью. Сначала появился автомобиль, потом начались автокатастрофы, и потом придумали правила дорожного движения и системы безопасности. И пока мы не увидим людей, сошедших от гаджетов с ума, или пока у детей не произойдёт явное снижение интеллектуальных способностей — пока опасность не станет очевидной, мы не сможем принять меры. В ближайшие десять лет, я думаю, мы с этим разберёмся, и появятся какие-то правила вроде того, что нельзя сидеть за компьютером или смартфоном больше определённого времени. Но пока мы спорим, есть ли вред от технологий, на всякий случай можно иногда садиться на цифровую диету или цифровой детокс — так стали называть добровольный отказ от гаджетов на какое-то время.
Смартфонные страшилки, которые могут оказаться правдой
Бракованный текст
Исследования показывают, что цифровой текст мы запоминаем хуже печатного. Дело в том, что для восприятия текста мозг строит его мысленную карту наподобие тех, что он строит для местности. Мы помним: чтобы дойти до дома, надо перейти через мост и обогнуть сквер. И точно так же мы помним, что Анна Каренина бросилась под поезд где-то в конце прошлой главы, в нижней части левой страницы. Но цифровой текст не обладает столь очевидной топографией — разместить ту же самую информацию на экране или в объёме электронной книги сложнее. А значит, вероятно, сложнее и запомнить.
Камера вместо памяти
Регулярное использование камеры смартфона может подточить память. В эксперименте, который провели учёные Фэрфилдского университета, участников просили осмотреть музей, и те, кто фотографировал, запомнили меньше экспонатов и информации о них, нежели те, кто просто бродил по залам. А ведь мы всё чаше смотрим на мир через объектив телефона. Неужели и наши воспоминания вот-вот сбегут в гаджет?
Чёрствые гаджетоманы
Для развития эмпатии — способности сопереживать человеку необходимо видеть, как реагируют на его слова и действия другие. Некоторые исследователи считают, что онлайн-общение обрубает эту обратную связь: даже самый современный гаджет не способен показать последствия наших слов и действий. Поэтому люди постепенно черствеют и всё меньше сочувствуют.
Фейсбучный недосып
Большую часть своей истории люди проводили вечера в темноте. Пару веков назад в наших спальнях появилось искусственное освещение. Исследования показывают, что оно подавляет выработку гормона сна мелатонина. Хуже всего на мелатонин влияет голубой свет от экранов смартфонов и ноутбуков. Привычка проверять перед сном ленту новостей подтачивает качество сна.
На диете
Выпустите телефон из рук всего лишь на день. Думаете, это легко? Вы просто не пробовали. Когда я отключила смартфон на сутки, карман, где он раньше обитал, неожиданно обзавёлся собственным гравитационным полем, в которое то и дело засасывало руку. Пальцы ощупывали пустоту, нервно проверяли соседний карман и только потом вспоминали, что они сегодня на цифровой диете.
«Отключиться» на сутки у многих получается с большим трудом. Это, например, обнаружила компания Diesel, когда провела промокампанию Pre-internet shoes («Доинтернетная обувь»). Разыгрывалась модель кедов, выпускавшаяся в 1993 году. Чтобы стать обладателем обуви, нужно было на три дня отказаться от интернета. Большинство участников не продержалось и суток.
Но расстраиваться даже в этом случае не стоит, ведь стратегия радикального отключения на самом деле нежизнеспособна. Диджитал-зависимость отличается от других зависимостей тем, что в мире сплошного покрытия сетью цифровая доза подстерегает на каждом шагу. Соосновательница одной из первых клиник цифрового детокса Хиллари Кэш считает, что именно поэтому цифровая зависимость лечится даже сложнее, чем алкоголизм: «Бывший алкоголик может держаться подальше от баров и собутыльников. Но в случае диджитал-зависимости придётся всю жизнь взаимодействовать с её источником. Поэтому задача человека — научиться контролировать себя».
Способов держать под контролем «цифровое я» много. Для начала можно с помощью специальной программы проанализировать своё экранное время. Программа покажет, сколько часов вы тратите на смартфон и какие приложения крадут больше всего времени. Чаще всего это соцсети, чуть реже — игры. Если удалить с телефона иконки этих приложений, он оказывается не нужен. Но по привычке рука всё равно теребит неприкаянный гаджет.
— Я понял, что если приложений нет, то и хвататься за телефон незачем, — рассказывает гаджетоман Максим после первого дня диджитал-диеты. — Но должен признать, по инерции я часто доставал телефон из кармана и смотрел на время… Хотя на руке ношу во-о-о-о-от такие большие часы.
В помощь борцам с цифровой зависимостью то и дело появляются приложения. Один только «Гугл» выпустил пять программ. Например, Unlock Clock крупными цифрами показывает, сколько раз вы разблокировали телефон. Тиканье счётчика нервирует и всерьёз ослабляет желание трогать гаджет.
— Главное в медиааскезе — не приложения, которые вы используете, не сила воли, а понять, зачем вы это делаете. У каждого ответ свой, — заключает Дмитрий Соловьёв.
Тест: Вы тоже номофоб?
Пройдите тест и узнайте, как далеко зашла ваша гаджетомания
Чтобы узнать результат, ответьте на вопросы (но честно, не обманывая себя!) и суммируйте баллы. За первый ответ в каждом вопросе полагается 1 балл, за второй — 2, за третий — 3. Всё просто!
Смартфон мгновенно оказывается в вашей руке после пробуждения?
1.Я, что называется, олдскул: берусь за смартфон не раньше завтрака.
2.Конечно! Надо отключить будильник и просмотреть уведомления, накапавшие за ночь.
3.Да что утром, я и среди ночи телефон иногда проверяю.
Вы испытываете тревогу, если телефон остался дома, выключен или разрядился?
1.Это всего лишь телефон. Ничего страшного, если его нет.
2.Без смартфона как-то дискомфортно, рука сама всё время лезет за ним в карман.
3.Мой телефон дома не остаётся: если я его и забуду, тут же вернусь за ним. А чтобы он никогда не разряжался, ношу в сумке пауэрбанк.
Гаджеты мешают общаться?
1.Мешают. Меня раздражает, когда люди, вместо того чтобы поддержать разговор и выслушать собеседника, то и дело ныряют в смартфон.
2.Скорее помогают, ведь это просто другой способ общения — со своим языком из смайликов и стикеров, этикетом и способами проявить внимание.
3.У меня сотни друзей в соцсетях, и я примерно представляю, что происходит в жизни каждого из них. Смартфоны спасают от одиночества!
Напоминания о делах, уведомления, письма по работе и учёбе всё сыплются и сыплются с экрана. Вас это сильно нервирует?
1.Да, особенно сообщения, требующие мгновенного ответа. Оставьте меня в покое!
2. Нет, это обычная работа, стараюсь отвечать сразу же.
3.Смартфон — это мой антистресс. Возня с ним приятна, пролистывание ленты успокаивает, а сообщения мотивируют и избавляют от чувства одиночества.
Вы замечали за собой такой симптом гаджетомании, как заппинг — постоянное переключение между вкладками, приложениями, делами?
1.Я точно знаю, зачем беру в руки смартфон. И делаю только то, что собирался. Проверил почту и убрал в карман.
2.Да, заппинг — это проблема: хочешь проверить рабочую почту, но вдруг обнаруживаешь себя среди мемов и котиков.
3.Заппинг — это хорошо! Без него в многозадачном мире не обойтись, это просто способ быстро справляться с делами.
Есть ощущение, что смартфон делает вас глупее? Вы перестали читать книги, вместо этого бесконечно пролистываете френдленту…
1.Я по-прежнему много читаю. Разве френдлента может занять надолго?
2.Да, боюсь, я теряю способность надолго сосредотачиваться на длинных и сложных текстах.
3.Скорее, я стал намного умнее: теперь все знания мира в моём распоряжении, и смартфон помогает всё время узнавать новое — в Сети столько интересных лекций, подкастов, онлайн-курсов!
Вы устраиваете себе цифровой детокс? Трудно ли вам остаться без смартфона или без соцсетей на пару дней?
1.Иногда полностью отключаюсь. Благодать!
2.Совсем отключить телефон не могу, но стараюсь ограничивать время, проведённое в соцсетях, и пользоваться смартфоном осознанно.
3.Цифровой детокс — просто глупость. Это как лишить себя важнейших способностей непонятно ради чего.
Ваш результат
От 7 до 11
Завидуем! Вы свободны от главной зависимости нашего времени. Смартфон для вас не более чем инструмент, вы прекрасно проживёте и без него. Но не упускаете ли вы удивительные возможности, которые дают гаджеты? Ведь это мощнейшее расширение мозга, делающее нас настоящими киборгами с массой новых способностей!
От 12 до 16
Вы типичный герой нашего времени — страдаете гаджетоманией в умеренной форме, как и большинство из нас. Как сделать, чтобы она не превратилась в патологию? Простого рецепта нет, важно стремиться к осознанному потреблению, но это целое искусство, для овладения которым нужно время. Кстати, начать можно с контроля времени, проведённого со смартфоном или в соцсетях, — для этого есть много приложений.
От 17 до 21
Вы не просто гаджетоман, вы киборг! Смартфон давно стал вашим искусственным органом, вынесенной вовне частью мозга — экзокортексом. Он много даёт, но и много отнимает. Что именно? Попробуйте пару дней провести без телефона на свежем воздухе — возможно, вы посмотрите на мир новыми глазами и почувствуете, что для вас по-настоящему важно.
Справка об авторе:
Мария Пази, научный журналист и биолог-исследователь, начала писать для журнала «Русский репортёр», ещё будучи студенткой биологического факультета СПбГУ, и очень быстро добилась признания. В 2018 году её отметили на премии «Дебют в научной журналистике», а вскоре её статья заняла первое место на конкурсе Tech in Media. В 2019-м — снова первое место на Tech in Media. В 2020-м — победа на конкурсе Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year. А в сентябре впервые в истории российской журналистики Мария была признана лучшим научным журналистом Европы: Европейская федерация научной журналистики и Британская ассоциация научных авторов объявили её победителем премии European Science Journalist of the Year за серию статей в «Русском репортёре» о том, как цифровые технологии меняют повседневность. Публикуемая статья продолжает эту серию.
«Не увидел, за счет чего «Спартак» собирался побеждать»
— Прошедший тур был очень интересным с точки зрения результатов матчей. Вам как тренеру какая игра больше всего понравилась своим содержанием?
— Мне понравилась игра «Ростов» — «Рубин». Потому что я сам практикую такой агрессивный футбол с высоким прессингом. Поэтому мне понравилось, как играл «Ростов». Были и другие хорошие игры, например, «Динамо» с «Краснодаром», ЦСКА и «Сочи». Но именно футбол, показанный ростовским клубом, мне близок как тренеру.
— В предыдущем туре «Рубин» обыграл ЦСКА 1:0. О том матче много говорили. Теперь казанцы сами терпят довольно обидное поражение. В том числе потому, что главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов сам довольно долгое время работал в «Рубине». Помогло ли это ему одержать разгромную победу над своим бывшим клубом?
— Соглашусь с вами. Кому, как не Виталию Витальевичу, знать «Рубин» и знать, как обыгрывать эту команду. Но я думаю, что состав составу рознь. Все-таки у Слуцкого совершенно другая команда.
Я вместе с Кафановым учился на тренерскую лицензию «PRO». Он очень грамотный, глубокий специалист. По матчу было видно, что «Рубин» был тщательно разобран перед игрой на теоритических занятиях. Потому что уж очень грамотно «Ростов» играл в высоком прессинге. Это подтверждает второй гол, забитый Полозом.
— Если говорить о высоком прессинге, то в похожей манере играл и «Краснодар» с «Динамо». Можно ли сравнить два этих матча?
— Матч «Динамо» — «Краснодар» получился очень динамичным. Тоже считаю, что «Краснодар» очень здорово прессинговал динамовцев на их половине поля. Это, кстати, подтверждает великолепная игра Шунина, не раз выручавшего свою команду. Если бы «Краснодар» реализовал свое преимущество в первом тайме, то «Динамо» было бы нелегко одержать победу в игре.
Отличие в том, что «Ростов» реализовал свои моменты, а игравший очень агрессивно «Краснодар» — нет.
— Показалось, что победа «Динамо» была не совсем заслуженной. Вы можете сказать, что бывают незаслуженные победы, или такие определения в футболе неприемлемы для вас как для тренера?
— Я противник таких определений. Могу сказать, что «Динамо» уже второй сезон мне очень симпатично. Мое впечатление, что команда находится на правильном пути. И по итогам этого чемпионата не удивлюсь, если они окажутся в тройке лидеров.
Не бывает незаслуженных побед. Все ребята старались. Если «Краснодар» не забил, значит, хорошо сыграла оборона. И вместе с Шуниным заслужила самых высоких похвал по итогам этого матча. А «Краснодару» есть над чем работать.
— Обе команды перед матчем понесли кадровые потери, которые сказались на их игре. А у вас есть такие «стержневые» игроки, отсутствие которых может влиять на игру вашей команды?
— Конечно, есть такие футболисты. Особенно при взаимодействии обороны и атаки в середине поля на флангах. Кто выполняет тренерские идеи в матчах. Два-три игрока. Поэтому потеря Фомина в атакующих действиях «Динамо» была ощутима. Есть неплохие ребята, кто может отыграть один-два матча, но в целом, если мы говорим о «Динамо», которое на протяжении многих матчей показывает хороший атакующий футбол, для него выпадение ключевых игроков ощутимо. Потому что не каждый может на сто процентов выполнять задумки тренера. Два игрока на одной позиции не могут одинаково играть. В каждой команде есть ключевое звено. Поэтому и атака у динамовцев была ослабленной из-за нарушенного взаимодействия в линиях.
— ЦСКА терпит уже второе поражение. В предыдущем туре проиграли «Рубину». Сейчас гораздо крупнее «Сочи». Это временный спад или намечается кризис?
— Глядя на пропущенные мячи в матче с «Сочи», когда он был проигран за первые пятнадцать минут, могу сказать, что все три гола — просто чудовищные ошибки. Первый мяч — невынужденная потеря и быстрая ответная атака. Второй мяч вообще непонятен. Что хотел сделать Дивеев? Необъяснимо. Назвать это кризисом сложно. Такие индивидуальные ошибки — это не кризис. Это недонастрой на матч. Третий гол такой же. Мяч пролетает, и ни один защитник не пытается его перехватить, прервать в подкате эту передачу или еще хоть что-то сделать.
Потом, конечно, армейцы собрались. Пытались атаковать, переломить игру. Во втором тайме забили быстрый гол. Если бы они продолжили атаковать и забили второй мяч, то можно было бы рассчитывать на другой исход.
Я считаю, что команду подвели индивидуальные ошибки в обороне. Но в целом армейцы проявляли характер. При счете 3:0 шли в атаку, забили мяч. Поэтому не считаю, что команда в кризисе. Хотя в последних матчах они не показывают той игры, которой от них ждут болельщики.
— Проигрывают матч все вместе — и футболисты и тренерский штаб. Когда вашей команде забивают три быстрых мяча в дебюте встречи, а замены следуют только после перерыва… Как вы в своей работе поступаете в аналогичных ситуациях? Что может тренер сделать в таком случае?
— Не думаю, что сейчас в ЦСКА есть равноценная замена Дивееву. Не такая сейчас длинная скамейка у армейцев, которая могла бы заменить ребят, допустивших ошибки. Березуцкий пока не располагает такими возможностями.
Матч матчу рознь. У меня были игры, когда мы к десятой минуте проигрывали 0:2. Бывают матчи, когда ты видишь, что футболисты просто не попадают в игру. Конечно, можно делать замены. Но бывают матчи, когда ты проигрываешь и при этом изнутри, тренерским взглядом видно, что ничего страшного и можно переломить игру. Если бы Березуцкий располагал соответствующей скамейкой, может быть, он и сделал бы какие-то замены, чтобы встряхнуть команду. Просто тренер не должен поддаваться панике. И если он верит в своих ребят, то и 0:3 можно отыграть.
— Еще один матч состоялся в Москве — «Спартак» играл с «Локомотивом». Вам сама игра понравилась?
— Не самое зрелищное дерби. Для такой вывески. Если только разбить игру на эпизоды, то некоторые из них понравились. Команды вцепились друг в друга и не давали играть. У «Спартака» ноль ударов в створ в первом тайме. «Локомотив» был более раскрепощенным в атаке, поэтому и моментов больше создал.
«Спартак» показался очень задавленным, видимо, действительно действует вся ситуация вокруг команды. Видна зажатость футболистов. Если раньше в атакующих действиях «Спартак» и был немного симпатичен, то в этом матче он был абсолютно скованным.
Понятно, что профессиональный спортсмен должен быть готов к внешним раздражителям, и они никак не должны влиять на его игру. На поле надо забывать и о прессе, и о шуме болельщиков. Но есть еще один момент.
Не хочу ни в коем случае критиковать Виторию, своего коллегу, но все-таки многое зависит от тренерского штаба. Ребята, выходя на поле, должны понимать, что им делать. Как вскрывать оборону соперника, как перемещаться по полю. Как страховать друг друга, как выходить из обороны. Играть в высокий прессинг или работать в среднем блоке. Очень многое зависит от тренерского штаба. А здесь складывается ощущение, что футболисты просто не понимают, что нужно делать на поле. Про ошибки в обороне просто говорить не приходится. Забитый гол «Локомотива» — это ошибка Айртона. Где элементарный подсказ Джикии, чтобы он перехватывал мяч? Совсем взаимопонимания нет в обороне. Мы не увидели, за счет чего «Спартак» хотел бы обыграть «Локомотив». Понятно, что было удаление, но первые 35 минут не было видно, как спартаковцы хотят атаковать и забивать голы.
— У вас был похожий опыт, когда долго не выигрываете и надо справляться с внешним давлением? Как взбодрить игроков в такой ситуации?
— Я не так давно работаю тренером, и пока таких затяжных серий поражений не было. Если вспоминать свой игровой опыт, то всегда есть психологические приемы. Если чувствуешь, что команда задавлена и надо раскрепостить ее, то есть эмоциональные упражнения. Можно просто собраться в неформальной обстановке и пообщаться. Постараться понять, кто чем дышит. Есть методы. Но основное, конечно, — такие поражения перемалываются работой. Надо создать атмосферу в тренировочном процессе на перелом такого положения.
Когда с «Текстильщиком» я вышел в ФНЛ, у нас было три поражения подряд, когда пропускали уже в добавленное время. С «Ротором», с «Енисеем». Было ощущение, что чего-то не хватает. И через тренировочный процесс удалось донести до футболистов, что мы будем делать дальше, как играть. Для чего мы будем это делать. И пришел результат. Любые поражения перемалываются через тренировки.
— После 14 туров к группе лидеров приблизились «Крылья Советов». Что стало основой такого успеха?
— Очень рад, что мы сможем поговорить об этой команде. Самарцы для меня по игре самая симпатичная команда в этом сезоне. Я знаю многих футболистов еще по «Чертаново». И главный тренер «Крыльев» Осинькин там работал и тоже хорошо их знает. Мы с ними еще три года назад бились за путевку в ФНЛ, когда я работал в «Текстильщике».
Основной залог успеха «Крыльев» — сыгранная команда и хорошие, хорошо обученные футболисты. Тренер хорошо знает их возможности. Это команда «не с листа» показывает такой результат. Ребята давно играют вместе. Есть взаимопонимание. И благодаря ему они уже не первый раз забивают красивые голы. Есть структурность. Повторюсь, для меня это команда с самой симпатичной, содержательной игрой.
— Можно ли сравнить их с «Сочи», если говорить про сыгранность команды?
— Судя по их матчу с ЦСКА и исходя из того, что у них тоже не самый «звездный» состав, хотя есть хорошие ребята, как Нобоа, соглашусь с вашим мнением. Федотов тоже неплохую команду сделал. Работоспособную. И второе место заслуженно. Команда показывает добротный, зрелищный футбол, именно командная игра оставляет хорошее впечатление у «Сочи».
— Если бы вы со своей командой следующий матч проводили с «Крыльями», на что сделали бы упор в подготовке, чтобы обыграть самарцев?
— Я бы не отказался от своей игры в матче с «Крыльями». Несмотря на то что команда хорошо играет при выходе из обороны в атаку. Я бы попробовал сыграть с ними в высоком прессинге. Попробовал бы взять их давлением на каждом участке поля. И если бы у нас игра не пошла бы на первых минутах, я бы перестроился в среднем блоке. Брал бы «Крылья» за счет плотной игры и искал бы счастья в быстрых контратаках.
Новостная лента — Официальный сайт станции скорой медицинской помощи г. Екатеринбург
Этот материал мы подготовили вместе со Станцией скорой медицинской помощи им. Капиноса и Фондом святой Екатерины, который помогает врачам, снабжая их в париод пандемии защитными костюмами, масками и перчатками. В августе фонд передаст врачам скорой 30 новых машин.
«Работаем и по смежным профилям»
— Андрей Владимирович, сколько вы сегодня спали?
— Нисколько. Я сейчас после суточной смены. Таких смен в неделю примерно три: сутки через сутки, потом перерыв два дня. Сегодня у меня отсыпной, завтра снова на смену. Если работать на одну ставку, то график будет сутки через трое. Но так почти никто не работает, в основном все трудятся больше, чем на ставку. Сутки через сутки — это две ставки, у меня — 1,75, но иногда получается и две.
— Помимо графика, как изменилась ваша работа во время пандемии?
— Во-первых, мое отделение — анестезиологии и реанимации № 1 — считается кардиологическим. В основном нас стараются посылать на боли в области сердца, нарушения сердечного ритма, на какие-то сердечно-сосудистые катастрофы. Но в связи с пандемией приходится выполнять другую работу: попадаем и на пневмонии, и целенаправленно на COVID. Например, если у пациентки с ковид-подтвержденной пневмонией в результате полиорганной недостаточности развивается сердечный приступ. Ну кого туда отправлять? Кардиореанимацию. Поэтому работаем и по смежным профилям. Интенсивность нагрузки возрастает.
— Как-то изменилось поведение пациентов, с учетом того, что в последнее время много жалоб на то, что они долго дозваниваются до скорой?
— Люди остаются людьми. Всегда есть те, кто относится с пониманием, что мы повлиять на ситуацию не можем. Есть люди, которые не хотят понимать. Конечно, как и в «мирное», так и в «военное» время, как сейчас, мы натыкаемся и на грубость, и на хамство, и на агрессию. Но многие понимают, что сейчас тяжело всем, и терпеливо ждут. Вообще, большинство конфликтных ситуаций возникает, когда ожидания вызывающих не соответствуют тому, что они получают. Чаще всего это происходит, если от скорой требуют выполнить не свойственные ей функции и получают отказ. Иногда это касается и времени доезда но, прошу, помните, пожалуйста: «скорая» — не значит «мгновенная». Иногда на прибывшего на адрес медика просто вываливают весь накопившийся груз жалоб к здравоохранению в общем. Просто потому, что систему изменить очень тяжело, а врач скорой — вот он, хоть ни в чем и не виноват. Иногда конфликтные ситуации провоцируют и сами медики (что делать, все мы люди, все не железные), но это гораздо более редкий случай — мы едем на вызов не ругаться, а работать. В любом случае хочу, чтобы все понимали: когда ты заходишь на адрес и встречаешь агрессию, сразу же срабатывает триггер в голове и думаешь уже не о больном. Вероятность врачебной ошибки здесь увеличивается примерно вполовину. На мою бригаду нападали неоднократно, приходилось и жизнь свою спасать.
Несколько лет назад, когда мы оказывали помощь пациентке с гипертоническим кризом, пришел ее сын в наркотическим опьянении, начал нам угрожать убийством, пришлось запереться в комнате. Мы вызвали наряд полиции (к работе полиции претензий нет), заявление написали. Но почему-то состава преступления в его действиях правоохранители тогда не нашли. Были случаи, когда на нас спускали собак или когда девять пьяных человек машину качали. Я сидел внутри с кислородным баллоном и думал: «Сейчас, когда ворвутся, кому-нибудь одному успею проломить голову». Всякое бывало. Думаю, это возникает от безнаказанности. Попробуйте на полицейского так напасть или хотя бы замахнуться — получите реальный тюремный срок.
— Вы сказали, что сейчас военное время. Когда-то раньше в вашей работе было такое время? Насколько его можно сравнить с сезонными обострениями?
— В сезонные обострения никогда не бывает такого количества тяжелых пациентов и таких очередей на томографию в приемном отделении. Во время чемпионата мира по футболу скорая помощь работала в режиме повышенной готовности, но тогда к этому сильно заранее готовились, мобилизовали технические и кадровые ресурсы, поэтому все было здорово и слаженно, работали дружно и хорошо. А к этой эпидемии с чем мы подошли, с какими силами, с тем и работаем. За 13 лет моей работы такое впервые.
— В вашей бригаде есть те самые костюмы-скафандры? С чем это сравнимо, когда приходится его надевать в такую жару?
— Оденьтесь в ОЗК (общевойсковой защитный комплект) и побегайте по жаре. К сожалению, костюмами приходится пользоваться каждую смену, потому что люди, вызывая скорую, скрывают, что у них температура. Приезжаешь, спрашиваешь: «Температуру измеряли?» Чаще всего получаешь ответ: «У меня вообще никогда не бывает температуры!» Ставим градусник, а там 38,4. Что делать, одеваемся в костюмы, везем на КТ. Бывало, сразу всех обитателей квартиры вывозили «одним рейсом».
— Правильно понимаю, что сегодня, если у пациента пневмония, то это 100% коронавирус?
— Конечно, не 100%. Какое-то количество нековидных инфекций, наверное, присутствует, но давайте взглянем правде в глаза — мы когда-нибудь в жизни видели такой вал пневмоний в летнюю-то жару? Если весь мир болеет практически одной болячкой, странно предполагать, что несколько дней кашель, температура и «задых» — это что-то другое. Коронавирус вытеснил все другие инфекции.
— Говорят, в последнее время много повторных вызовов.
— Вчера пришлось ездить на такой. Днем у пациента с признаками пневмонии была специализированная бригада, но он от госпитализации отказался, потому что люди боятся, отказываются это осознать и принять. Но через несколько часов состояние ухудшается, люди начинают понимать, что надо ехать в больницу. Это дополнительная нагрузка и потеря времени. А хронические болезни сердца, да и все остальные недуги на время пандемии никто не отменял. Люди продолжают болеть и инфарктами, и инсультами, и аппендицитами. Люди продолжают травиться и несвежей пищей, и спиртным, и медикаментами, и наркотиками. Люди падают с высоты, бьются в ДТП, вешаются и режут вены или друг друга. Тяжелым больным порой требуется перетранспортировка из одного стационара в другой, а рожающим женщинам надо ехать в роддом. И всю эту нагрузку со скорой помощи никто не снимал.
— У вас такой профиль, что надо приезжать максимально быстро. В соцсетях появляются посты, в которых люди рассказывают, что ждут скорую или дозваниваются по полсуток. Какой у вас антирекорд?
— Да, дозвониться непросто, потому что в оперативном отделе (диспетчерская) тоже работают люди, часть из которых болеет. В эту эпидемию антирекордов у меня не было, потому что реанимацию стараются держать на самые тяжелые случаи, когда, например, происходит ДТП с пострадавшими. Несколько лет назад во время эпидемии гриппа была задержка вызовов часов в шесть, тогда нас отправляли в общее пекло разгребать завалы — народу не хватало.
— Недавно объявили, что отвозить ковидных пациентов на КТ будут сотрудники транспортных предприятий. Это разгрузило ваших коллег?
— Пример такой: вчера повод вызова — задыхается кардиобольной. Вызов на ВИЗ. Приезжаем — в легких хрипы, сатурация низкая, температура, болеет четвертый день, диагностирую пневмонию, надо везти на КТ. Звоним в бюро госпитализации, спрашиваем, где находится рабочий томограф. Нас направляют в 14-ю больницу (на Уралмаш). Одеваемся, едем, там ждем результатов КТ (очередь) и опять через бюро запрашиваем, куда больного с 30-процентным поражением легких везти. Для пациента находят место в первой городской больнице (центр), куда мы его и везем. Это занимает не один час и не два. Это не потеря времени? Понятно, это «тяжелый» пациент, а кроме него есть еще и масса «легких», ожидающих своей очереди.
Поэтому если бы коронавирусных больных хотя бы с легкой формой возил кто-то другой, конечно, это бы высвободило массу сил. Но нужен транспорт, защита, подготовка людей. Если это делать неправильно, то просто будет распространение инфекции. Быстро решить такие кадровые задачи очень сложно. Конечно, бригад не хватает. Многие со мной не согласятся, но я понимаю так: бригада СМП — это прежде всего машина с водителем. Понимаете, бригада может быть без реаниматолога, может быть и вовсе без врача (фельдшерские бригады), но без водителя и машины она не может существовать. Просто без них никто никуда не поедет.
Другой вопрос — где брать новых сотрудников. И никакое «ускорение подготовки» тут не поможет — на обучение медика нужно много времени. Врача готовить надо 7-8 лет (6 курсов + интернатура/ординатура). За это время можно дважды окончить бакалавриат в других сферах, получить два высших образования. Как говорится, даже если одновременно забеременеет девять женщин, то через один месяц ребенок не родится. Уверен, когда новые сотрудники подоспеют в требуемом количестве, эпидемия закончится.
— Я разговаривал с врачом неотложной психиатрической помощи. Он сказал, что местный вуз таких специалистов вообще не готовит.
— Врач скорой помощи — это отдельная специальность. Ординатура по скорой помощи сейчас в Уральском медуниверситете закрыта. А последние интерны на скорую помощь приходили в 2016 году. Большая загадка для меня, как сегодня становятся врачами скорой. Но думаю, что эту проблему как-то решат. Потому что кадры по разным причинам уходят, больше нас не становится. Никто не идет. Во-первых, долго учиться; во-вторых, работа тяжелая, в экстремальных условиях, порой страшная и неблагодарная. Народ говорит: «Ну нафиг, я лучше пойду в частную клинику». Или вообще медицинские учебные заведения обходят стороной.
— Что тогда заставило вас и ваших коллег пойти в скорую? Это действительно призвание?
— Любое призвание забывается, когда нет денег. Я сюда врос, я влюбился в скорую, когда еще был студентом — прошел путь с самого низа, от санитара до врача реанимационной бригады, хорошо знаю эту работу. Мне более-менее нравится график: здесь сутки отработал и свободен. В стационаре ты можешь отработать день, потом остаться на дежурство до утра и потом снова рабочий день. Ну и, если здесь много работать, в принципе, не бедствуешь. Конечно, смотря у кого какие запросы, но на прокормиться хватает. На одну же ставку зарплаты довольно скромные…
— Насколько президентские и губернаторские надбавки стимулируют людей выдерживать напряженный график?
— Люди в том числе работают и ради этих надбавок, но часто они бывают нетерпеливыми — думают, что выплатят сразу и всем. Думаю, это не так, система инертна, и неправильно думать, что если сегодня самый главный распорядился, то завтра все получат деньги. Я не форсирую события и не переживаю по этому поводу. Нам про эти выплаты все объяснили многократно, думаю, что свое мы получим.
«Нам всем придется переболеть»
— Как родные реагируют на происходящее на вашей работе? Не советовали найти другую или уволиться на время?
— Если они даже думают об этом, то не озвучивают.
— Из уважения к вам?
— Хочется думать, что это так. Это моя работа, которая мне комфортна, это наш доход. И, может быть, это звучит высокопарно, но это честь, хотя в последнее время все более цинично к этому отношусь.
— Приходится ли как-то ограничивать контакты с родными?
— Да, с некоторыми пожилыми родственниками стараемся не контактировать. Я человек, честно говоря, нелюдимый, поэтому особого дискомфорта не испытываю. Супруга придерживается того же мнения, что и я: к сожалению, эпидемия — это стихия, она неизбежна и будет развиваться по своим законам. Нам всем, к сожалению, придется переболеть в той или иной форме, вирус найдет каждого. Что теперь? Проблема в том, чтобы растянуть этот процесс на время и чтобы медицинских мощностей хватило на всех. Поэтому лучше не думать об этом и просто делать свое дело. Думать каждый день о черном дне — значит, делать черным каждый день.
«Медики так же болеют и умирают»
— Лично для меня примерно до середины мая пандемия была просто статистикой, но потом начали заболевать знакомые. В какой момент вы столкнулись с этим?
— Столкнулся в самом начале апреля, когда меня свалили температура и кашель. Но никто не делал тест, говорили, что мне он не полагается, дескать официально я не контактировал с больными Covid-19. Тогда система имела не диагностический, а ограничительный характер. Я был заперт дома и даже с собакой не мог выйти погулять, и так продолжалось больше месяца. Понимал, что, скорее всего, это оно.
Приходил участковый терапевт, назначал препараты — антибиотики, муколитики, неспецифическое лечение без особого эффекта. Первое КТ мне сделали на 25-й день (смеется). Тогда и тест уже был отрицательный, выздоровление пошло. Само собой, даже если я переболел «короной», то ни в какую статистику не попал. С тех пор я контактирую с большим количеством коронавирусных больных и не заражаюсь. Но июльский тест показал, что антител нет.
— Вы регулярно сдаете тесты. Недавно появилась информация о кратном росте заболеваемости среди медиков. Это связано с общим ростом заболеваемости среди населения или с тем, что просто стали больше диагностировать?
— И с тем, и с другим. Медики тоже люди, так же контактируют, так же болеют, так же умирают. Почему, например, стало много рака и инфарктов среди молодых? Просто их стали больше диагностировать. Раньше человек просто умирал и все.
— Как чаще заражаются медики — на работе или в быту?
— Как бы вам сказать… Это называется профвредность. Как вы думаете, количество, например, бухгалтеров, которые погибают в огне, такое же, как количество пожарных? Многие мои коллеги уже переболели, но все вернулись на работу.
— Многих шокировала смерть хирурга ОКБ №1 Юрия Мансурова…
— Он не последний.
«Мы не на пике и не на плато»
— С июня говорят, что Россия вышла на пик пандемии. Но к официальной статистике много вопросов, и доверять ей становится все сложнее. На какой стадии, по вашим ощущениям, мы сейчас?
— Судя по тому, что мы видим каждую смену, мы не на пике и не на плато. Мы на росте. И он остановится, только когда большая часть переболеет.
— Мы же с вами понимаем, что официальные заболевшие — это только те, у кого диагностировали коронавирус и записали в статистику. Что для вас будет признаком того, что пошел спад?
— Лично для меня — сокращение очередей на КТ. Когда мы будем привозить больного и там не будет еще десяти машин. Тогда я подумаю: «Кажется, да, выработался групповой иммунитет».
«У людей нет чувства опасности»
— Бывают случаи, когда люди с признаками коронавируса делают платный тест и, не дозвонившись по горячим линиям, начинают самолечение. Насколько это оправданно?
— Насколько рискованно деревенской бабушке без специального образования садиться за управление современным электровозом? Организм, в принципе, заточен эволюцией на то, чтобы справляться с инфекцией. Если человек будет лечиться самостоятельно, вероятно, он себе просто не навредит. Но хватит ли у него понимания, чтобы не пропустить угрожающее ухудшение состояния? Вирус до сих пор остается неизученным, и единого стандарта лечения нет даже среди специалистов. И то, что происходит сейчас в рамках борьбы с коронавирусом даже в профессиональной медицинской среде, я бы назвал «разведкой боем».
Тем эта эпидемия и опасна. Если бы вирус был более смертоносен, тогда бы очень быстро ввели жесткие карантинные меры, все закрыли и локализовали. Но этот вирус не убивает каждого, и даже не каждого десятого убивает. Поэтому у людей нет чувства опасности. Один новостной портал размещает фотографии, где они тусуются, гуляют по Вайнера… Хорошо бы рядом разместить фотографии, где стоят десять машин скорой помощи в очереди на КТ, а рядом стоят люди в масках, которые из поликлиники пришли в приемный покой и прождут своей очереди до ночи.
— О чем вы думаете, когда узнаете, что в регионе в очередной раз ослабили режим ограничений? Это гарантированно будет прирост новых заболевших?
— Понятно, что приходится открывать торговые точки, летние кафе, людям надо работать. Вот крупные магазины, да и любые массовые мероприятия надо запрещать. Если продолжать в том же духе, то рост может стать просто взрывным: представляю себе плачущих родственников, которые не могут своего деда поместить в больницу, потому что они все заняты. Кстати, когда у нас там крестный ход? (Интервью записывалось накануне «Царских дней», — прим. 66.RU.)
Та же так называемая социальная дистанция зачастую не работает. Пусть даже люди в замкнутом помещении находятся на расстоянии двух метров друг от друга. Но у них в воздухе закрытого помещения аэрозоль вируса. Они все одной взвесью дышат. Социальная дистанция может быть эффективной только на продуваемой ветрами территории. А маска не столько защищает от витающих в воздухе микрокапель с вирионами, сколько помогает не распространять, если ты сам носитель. Но все равно маска — это лучше, чем ничего.
— Томские журналисты недавно опубликовали фотографии якобы с трупами в пакетах, лежащих на полу в местном госпитале. Насколько такая ситуация реальна?
— Трупы в черных пакетах? Ну а в чем им еще лежать? И не в палатах же их оставлять, в самом деле. Палаты нужны для новых больных, а морги имеют, знаете ли, ограниченную вместимость и пропускную способность. Будет высокая заболеваемость — будет высокая смертность, будет высокая смертность — будут лежать трупы. Если медицинских мощностей не хватит на всех, кому-то придется помирать. Все очень логично.
— Вакцина станет панацеей?
— Прививаться обязательно надо. Конечно, прививки несут небольшую долю риска, но этот риск категорически меньше, чем встреча с заболеванием «в полный рост». Вообще, после того как человек привился, а потом встретился с заболеванием — как правило, среди привитых смертность почти нулевая. Вопрос в том, когда появится вакцина.
Обращение Андрея Баскова к читателям 66.RU:
«Люди, если есть возможность дистанцироваться, если у вас еще осталось терпение, пожалуйста, соблюдайте… Меня режет слово «самоизоляция», оно неправильное. Старайтесь соблюдать карантин.
К сожалению, скорее всего, придется переболеть всем в той или иной форме. Будьте к этому морально готовы. Если у вас диагностировали коронавирус, не надо сразу паниковать. Большинство людей переболевают и выздоравливают. Старайтесь ограничить контакты, чтобы снизить вероятность заражения и уберечь окружающих.
Давайте терпимее относиться друг к другу. Все работают на пределе, все делают, что возможно. Никто специально для вас бригаду скорой помощи по 12 часов не держит. Это происходит из-за величайшей нагрузки. Мы заинтересованы в том, чтобы всем быстро и эффективно помочь. В то же время всем нам надо стараться затормозить распространение вируса. Чем более будет растянута по времени эпидемия, тем более благоприятно и с меньшим количеством жертв она пройдет. Потому что наши ресурсы мало того, что ограничены, они еще и уменьшаются, так как медики тоже болеют. А встать на их место некому. Но, я уверен, эпидемия не бесконечна, мы переживем ее.
Всем здоровья!»
Общество можно сравнить с огнем, у которого умный греется в известном отдалении от него, а не суется в пламя, как глупец, который раз обжегся, спасается в холод одиночества, жалуясь на то, что огонь жжется.
ПОХОЖИЕ ЦИТАТЫ
ПОХОЖИЕ ЦИТАТЫ
Любовь — неутолимая жажда, любовь — это океан, которого никто не может исчерпать; в то время, как солнце похищает у него одну волну, сто рек приносят ему новую тысячу волн.
Жан Поль Рихтер (50+)
Можно родиться и жить как в раю, постоянно жалуясь на жизнь, так и не познав ее радости.
Константин Пи (50+)
А можно ценить и понимать то, что у тебя есть, и быть самым счастливым!
Бедный человек не тот, у которого нет ни гроша в кармане, а тот, у которого нет мечты.
Сократ (100+)
Довольно тускло мы живем,
Игорь Губерман (500+)
Коль ищем радости в метании
От одиночества вдвоем
До одиночества в компании.
Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода.
Наваждения (Макс Фрай) (20+)
Человек устроен таким образом, что для него нет ничего невозможного, если что-то зажгло пламя в его душе.
Жан де Лафонтен (10+)
Душевный огонь не видно, но как от него тепло.
Аневито Кем (10+)
Глупец суетится вовсю, затеяв пустяк, а умный сохраняет спокойствие, берясь за великое дело.
Индийские пословицы и поговорки (100+)
Наши воспоминания — как дом, в который всегда можно вернуться.
Я хочу домой (Эльчин Сафарли) (6)
Нет одиночества более сильного, чем рядом с человеком, который не видит тебя в упор, занятый собственными делами.
Рик Янси (1)
Я не прививаюсь от ковида, потому что… Разбираем популярные причины
Профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин
Сейчас за эффективностью разных вакцин против новых вариантов коронавируса внимательно следят во всем мире, в том числе в России. По последним данным, вакцины, которые защищали от исходных вариантов SARS-CoV-2, остаются эффективными и против новых, распространенных в России, в первую очередь — «Альфы» и «Дельты». Список стран, где привита большая доля населения, растет, и вакцинация повсюду снижает общее число заболевших, хотя в этих странах в основном встречаются именно новые варианты вируса. Невозможно заранее предсказать, как вакцина будет действовать на те варианты, которые появятся в будущем, но даже если они будут частично уходить от иммунитета, состав вакцин можно будет обновлять. Это, например, делают каждый год с вакциной от гриппа.
Доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий и Университета Ратгерса (США) Константин Северинов
Вакцины против COVID-19, эффективность действия которых доказана, приводят к образованию у привитых людей антител, которые нейтрализуют вирус и защищают от инфекции. Новые штаммы вируса нейтрализуются антителами в крови вакцинированных медленнее, чем исходный уханьский вариант, против которого вакцины были разработаны, но в любом случае нейтрализация происходит. В крови невакцинированных людей вирус не нейтрализуется совсем. Уровень защиты, который обеспечивают вакцины, прошедшие необходимые испытания, достаточно высок, чтобы человек или не заболел новыми вариантами, или перенес болезнь легче, чем невакцинированный. Специальных препаратов против разных штаммов коронавируса, скорее всего, не будет: они просто не потребуются.
Доктор психологических наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик
Исследования, которые мы провели, показывают, что негативное отношение к вакцинации от COVID-19 объясняется целым рядом факторов: низким социальным доверием, беспокойством по поводу непредвиденных последствий вакцинации, убеждением в том, что большинство других людей не доверяют вакцинам и верой в конспирологические теории. Но самый большой вклад в него вносит представление о COVID-19 как о заболевании, которое все еще плохо изучено и последствия которого неизвестны. Важно понимать, что природу COVID-19 уже исследовали намного лучше, чем в 2020 году, большинство независимых экспертов во многом сходятся. А эффективность вакцин против оспы и полиомиелита тоже не стопроцентная: прививки против этих болезней действуют в 90–95% случаев («Спутник» эффективен в 97,6% случаев — прим. ТАСС).
Сравнение мозга с нейронной сетью / Хабр
Можно встретить много критических замечаний о том, что биологический мозг или биологические нейронные сети работают совершенно не так как ныне популярные компьютерные нейронные сети. К подобным замечаниям прибегают различные специалисты, как со стороны биологов, нейрофизиологов так и со стороны специалистов по компьютерным наукам и машинному обучению, но при этом очень мало конкретных замечаний и предложений. В этой статье мы попытаемся провести анализ этой проблемы и выявить частные различия между работой биологической и компьютерной нейронной сетью, и предложить пути улучшения компьютерных нейронных сетей которые приблизят их работу к биологическому аналогу.
Граница знаний
Прежде я хочу пояснить, почему, по моему мнению, в вопросе создания сильного искусственного интеллекта до сих пор всё так печально, не смотря на грандиозные успехи в компьютерных науках и знаниях о биологическом мозге. Прежде всего, это связано с большой идеологической пропастью между этими двумя столпами науки. Компьютерные науки требуют некой схематичной простоты, строгости и лаконичности в описании систем, некого системного подхода, в отбрасывании лишнего и чёткой структуризации достаточной для оформления в программном коде. В биологии же главенствует подробность описания наблюдаемых систем, ничто не может быть отброшено или проигнорировано из наблюдений. В описываемые системы должны быть включены все наблюдаемые факты. Поэтому биологам сложно применять системный подход к своим обширным знаниям для создания алгоритмов мозга. Ведь чтобы создать конструктив самолёта потребовалось очень многое пересмотреть и отбросить из образа птицы.
С другой стороны легко понять учёных и инженеров, которые при погружении в изучение компьютерных нейронных сетей из описания принципов работы мозга довольствуются коротким абзацем текста о нейроне, который с помощью синапсов на дендритах «слушает» другие нейроны и по единичному аксону передаёт результат вычислений суммации по слою дальше, не применяя к этим знаниям никакой критической оценки. Даже нейробиологи применяют формальный нейрон Маккаллока — Питтса при описаний принципов работы биологического нейрона, но делают они это по другой причине, по причине того что нет достойных альтернатив, нет в биологии чёткого описания того что делает нейрон, какую логику он выполняет, несмотря на обширные знания о нём.
Если кто-то попробует провести реинжиниринг работы мозга, то встретит целый пласт накопленных противоречивых знаний, разобраться в которых фактически не хватит жизни даже биолога, не говоря уже о системном инженере который привычен к более другой форме знаний. Работать с таким объёмом информации возможно только через призму некой общей теории работы мозга, которой пока нет.
Человечество обладает технологиями колоссальных вычислительных мощностей и гигантским объёмом знаний о мозге, но не может получить синтез этих вещей. Давайте же попытаемся решить эту проблему и сотрём эту границу знаний.
Мозг это должно быть просто
Первый очень важный принцип, которым следует руководствоваться – это идея того, что мозг должен работать по неким очень простым правилам, т.е. все когнитивные процессы какими бы сложными они не казались, основаны на простых базовых принципах. Это отличается от того, что мы привыкли слышать о мозге. Длительное отсутствие общей теории работы мозга породило множество спекуляций на тему того, что мозг — некий непостижимо сложный объект, или природа его работы выходит далеко за рамки тех научных методов изучения, которые к нему применяют. К примеру, сравнивают мозг с квантовым компьютером, или незаслуженно приписывают отдельным нейронам свойства сложных вычислителей, что вкупе с их количеством в нервной системе делают требования к вычислительным мощностям для моделирования мозга не достижимыми.
На мой взгляд, ученых, которые высказываются о том, что Человечеству никогда не постичь сложность человеческого мозга нужно лишать научных степеней, подобные высказывания только могут подрывать боевой дух людей которые захотят посвятить себя решению этой проблемы.
Так что же свидетельствует в пользу простоты работы мозга? Здесь я приведу совершенно парадоксальный пример. Если взять виноградную улитку и подвести электроды к одному нейрону её крупного ганглия, согласно всем требованиям, которые применяются к подобным экспериментам, то мы сможем получить график активности отдельного нейрона, и попытаемся проанализировать его, то получим очень сложный характер его активности. Даже если учтём характер инвазивности нашего эксперимента, то что наши электроды приносят улитки серьёзные повреждения и ограничение её жизнедеятельности, то характер активности нейрона всё равно выглядит очень сложным. Мы увидим и спонтанную активность, и изменение в количестве и частоте спайков с течением времени. Многие учёные бьются над объяснением этого сложного поведения нейрона на протяжении уже долгого времени, ища какую-либо закономерность в этом.
Эти факты делают нейрон неким сложным вычислителем, работающим по сложному алгоритму. Учитывая, что таких нейронов в нервной системе улитки насчитывается около 20 тысяч, то можно сказать, что вычислительная мощь нервной системы рядовой улитки сопоставима с мейнфреймом. Я думаю это должно вселить в Вас трепет перед этими животными. Но давайте посмотрим, насколько сложно поведение улиток. Улитка – это некий биологический автомат, да у него существует некая степень вариативности поведения, но она очень мала. Это набор безусловных рефлексов, зачастую очень простых, которые можно объяснить уже имеющимися знаниями о нейронах, синапсах и рефлекторных актах и здесь не будет места сложным вычислениям.
В подтверждение выше изложенного хочу сделать отсылку к моей прошлой статье, в которой описывается модель головастика лягушки, в которой благодаря нервной системе из нескольких десятков нейронов можно получить достаточно сложное поведение водоплавающего существа. Причём из очень простых нейронов, модель которых основана на известных в науке фактах.
Так откуда берётся это сложное поведение нейрона, и зачем их такое большое количество? Здесь на самом деле одно вытекает из другого. В природе существует парадоксальное явление, которое можно назвать парадоксом эффективности нейрона. Оно заключается в том, что с увеличением и усложнением нервной системы эффективность или роль отдельного нейрона в этой системе падает.
Если мы проанализируем нервную систему кольчатого червя c.elegans, животного, чей коннектом из 301 нейрона полностью составлен, то увидим, что не только отдельные нейроны важны в правильной работе его нервной системы, но и имеют значения даже отдельные синапсы. То есть мы можем присвоить отдельному нейрону кольчатого червя 100% эффективности. Если рассматривать с этой точки зрения нервную систему человека, то сложно присвоить нейронам значимое значение эффективности которые можно вынести ломиком из черепной коробки, при этом сохранив жизнедеятельность человека и даже его социальную интеграцию, ну почти сохранив.*
*отсылка к очень известному случаю Финеаса ГейджаВикипедияРегулярно можно увидеть статьи, в которых описывается случаи, где люди, живущие полноценной жизнью и социально адаптивны, вдруг обнаруживают, что их мозг лишён каких-либо областей или долей. Не удивительно, что такие факты порождают идеи того, что дело вовсе не в нейронах, да и вообще не в мозге.
Если наблюдать за активностью здорового мозга, то мы не увидим никаких лишних нейронов, каждый нейрон будет задействован, в разной степени, конечно, каждому будет присвоена своя роль. Как это делает мозг, какой должен быть алгоритм нейрона, чтобы это происходило, при низкой эффективности нейрона, я поясню ниже.
Парадокс эффективности нейрона можно объяснить тем, что при увеличении количества нейронов в нервной системе уменьшается «внимание» процессов эволюции к отдельным нейронам. Поэтому нейроны кольчатого червя, можно выразиться, работают как часы, очень точно, нейроны же виноградной улитки и Человека такой точностью похвастаться не могут, в их работе можно увидеть и спонтанную активность так и отсутствие ответа там, где он должен быть, так и его нестабильность.
Итак, на сложную активность нейрона можно представить две теории: нейрон – это сложный вычислитель, алгоритм работы которого сложно понять и обосновать, либо нейрон просто работает очень нестабильно, что компенсируется его избыточным количеством, что является самым простым решением с точки зрения эволюции. Примените к этим теориям правило бритвы Оккама, согласно которой нужно оставить идеи которые имеют самое простое объяснение и вероятнее всего эти идеи будут верными.
С одной стороны парадокс эффективности нейрона даёт нам позитивную надежду, что необходимых вычислительных мощностей для моделирования мозга потребуется значительно меньше, чем при прямой оценке по количеству нейронов и синапсов в мозге человека. С другой стороны это очень сильно усложняет изучение биологического мозга. Мы можем создать достаточно подробную модель небольшого фрагмента коры мозга, затратив большие вычислительные мощности и в этой модели не увидеть каких-либо значимых процессов, которые указывали бы на то, как протекают когнитивные механизмы в нервной системе. Такие попытки уже проводились.
На первый взгляд самый простой и прямолинейный подход в создании общей теории работы мозга – это создание подробной модели мозга, в соответствии с множеством научных фактов известных о нейроне и синапсах. Моделирование – это самый практичный научный инструмент в изучении каких-либо сложных систем. Модель буквально раскрывает суть изучаемого объекта, позволяет погружаться и влиять на внутренние процессы, протекающие в моделируемой системе, давая возможность их глубже понимать.
У нейрона нет никаких исключительных органелл, которые производили бы вычисления, но его мембрана имеет ряд особенностей, и позволяют выполнять нейрону определённую работу. Это работу можно определить с помощью системы уравнений называемой моделью Ходжкина-Хаксли, которая была разработана в 1952 году, за что её авторы получили нобелевскую премию.
Эти формулы содержат несколько коэффициентов определяющих некоторые параметры мембраны нейрона, такие как скорость реакции ионных каналов, их проводимость и т.д. Эта волшебная модель описывает сразу несколько явлений, помимо изменения заряда на поверхности мембраны нейрона. Во-первых, она описывает функцию активации нейрона, или механизм суммации, он достаточно прост. Если исходный заряд недостаточен, то модель остаётся в равновесном состоянии. Если заряд переходит через определённый порог, то модель отвечает одним спайком. Если заряд в значительной степени превышает данный порог, то модель отвечает серией спайков. В компьютерных нейронных сетях используется большое разнообразие вариантов функции активации, самые близкое к биологии может являться функция Хевисайда (единичная ступенька) и линейный выпрямитель (Rectifier). Но нужно понимать, что мы описываем достаточно простой аспект работы нейрона – суммацию. В своей работе над головастиком, упомянутой выше, я применил очень простой вариант модели суммации, который образно можно представить в виде сосуда накапливающего в себе фактор побудительного воздействия, если этот фактор превышал определённый порог, то нейрон активизировался. Чтобы этот сумматор работал в реальном времени, из образного сосуда фактор воздействия медленно истекал.
Эта модель суммации позволяла производить суммацию сигналов, которые приходили на нейрон асинхронно, и она достаточно реалистично работает. На мой взгляд, чем проще описывать этот процесс, тем лучше, и это непринципиальное отличие биологических и компьютерных сетей.
Во-вторых, модель Ходжкина-Хаксли описывает изменение заряда в одной точке мембраны, но если мы, к примеру, создадим топологически точную 3D модель нейрона и разобьём эту модель на равномерную сетку, мы сможем применить модель Ходжкина-Хаксли в каждой вершине (узле) этой сетки, с условием влияния заряда на значение в соседних вершинах по сетке. Тем самым мы получим модель распространения возбуждения по нейрону близко к тому, как это происходит в живом нейроне.
Главные выводы, которые можно сделать из этой модели, это то, что возбуждение, возникнув на любом участке мембраны, распространяется на всю мембрану, в том числе распространяется по длинному аксону к самым удалённым синапсам. Модель Ходжкина-Хаксли очень ресурсозатратна поэтому для целей моделирования используют менее затратные модели с очень схожими графиками, таких придумано несколько моделей.
В рамках проекта Human Brain Project (HBP) была создана модель небольшого фрагмента коры мозга мыши, её создатели учли очень многое. 3D модели нейронов были воссозданы по реальным нейронам, использовался один из вариантов моделей Ходжкина-Хаксли, учитывались различные типы нейронов и нейромедиаторов, и нет сомнений в том, что модель действительно соответствует биологическому аналогу. На это потрачено множество ресурсов и времени, но так и не дало значимых результатов по причине того, что в столь малом размере из-за парадокса эффективности нейрона невозможно было увидеть значимых процессов. Поэтому путь подробного повторения биологии является очень и очень трудоёмким. Залог успеха это возможность понимания того как работает нервная ткань и нейроны в более широком масштабе.
Давайте рассмотрим то как мозг обрабатывает информацию на частном примере, на обработке зрительной информации. Мы составим схему нейронной сети выполняющей эту задачу.
Информация с сетчатки глаза по зрительному нерву передаётся в таламус, там информация практически не подвергается значимым преобразованиям. Далее она передается в первичную зрительную зону коры головного мозга (V1). В коре головного мозга выделяют шесть слоёв, но эти слои по гистологическим или морфологическим признакам. Вероятно, здесь мы имеем дело с двумя слоями, так как некоторые структуры повторяются дважды. Но и при этом мы имеем дело скорее не с двумя отдельными самостоятельными слоями, слоями нервных клеток работающих в тандеме.
Охарактеризуем зону зрительной коры V1 как первый слой, в котором происходит обработка информации. Зона V1 также имеет обратные связи с таламусом. Подобные обратные связи имеются и между всеми последующими слоями. Эти связи формируют циклические передачи возбуждения между слоями называемыми реверберациями.
После зоны V1 информация передаётся в следующую зону V2, все последующие зоны будут иметь меньшие площади. В зависимости от того, что наблюдает мозг, был это объект, символ, лицо человека, место или что-то другое информация из V2 может передаваться в различные области V3, V4, V5. То есть уже на этой зрительной области V2 происходит серьёзная категоризация зрительных образов. И примерно уже на третьем или четвёртом слое можно будет выделить нейроны-детекторы определённых образов. К примеру, мы сможем выделить нейрон-детектор буквы «А», цифры 3 или лица Дженнифер Энистон. По активации этих нейронов-детекторов мы сможем судить об том, что в данный момент наблюдает мозг. Достаточно простая архитектура нейронной сети, если сравнить её с архитектурой компьютерных нейронных сетей специализированных на распознавании визуальных образов, свёрточных нейронных сетей.
AlexNet
Есть схожие моменты, это иерархия свёрточных слоёв, каждый последующий слой будет иметь всё меньшее количество параметров. Но у слоёв данного типа компьютерных сетей нет рекуррентных связей, конечно, их наличие не является критерием для успешного распознавания образов, так как природа ревербераций в живом мозге до конца не изучена. Есть гипотеза, что реверберации связаны с явлением моментальной памяти, той памяти, которая позволяет нам, к примеру, не сбиться при наборе номера телефона или его произношении. Реверберирующая активность как бы задерживается, обозначая участки, по которым проходит эта активность, тем самым создается контекст обрабатываемой информации.
Человек может распознать сложные образы за доли секунд, скорость распространения потенциала действия по мембране от 1 до 120 м/с, синаптическая задержка в химических синапсах составляет 0,2-0,5мс, что говорит о том, что за время распознавания может задействоваться цепочка не более чем ста нейронов.
Вышеописанное говорит о том, что в нашей черепной коробке присутствует нейронная сеть, работающая быстрее и эффективнее любой компьютерной нейронной сети, при этом организованна она относительно просто, выполняющая не сложные преобразования информации. Понимание этого и подстрекает производить поиск алгоритма сети, который бы выполнял задачу распознавания образов с применением значительно меньших вычислительных ресурсов, чем современные нейронные сети.
Формальный нейрон
Ещё со школьных лет меня волновала идея создания искусственного интеллекта, свои интерес я удовлетворял изучением литературы по нейрофизиологии, и об искусственных нейронных сетях я ничего не знал. С нейронными сетями я познакомился позже, будучи уже студентом. Знакомство с формальным нейроном Маккалока-Питса, который является основой для всех современных нейронных сетей меня озадачило и разочаровало, из-за большого акцента на дендритных синапсах.
Формальный нейрон Маккалока-Питса можно представить как некую функцию с множеством аргументов и одним ответом. Аргументы-входы преумножаются с соответствующими коэффициентами, называемыми весами (W1, W2,… Wn), затем эти значения складываются и полученная сумма проходит через активационную функцию, результат которой и является результатом вычислений нейрона. Главное это правильно подобрать веса, то есть обучить нейронную сеть. Эта модель нейрона может показаться простой и очевидной, но в ней сильный акцент на дендритных синапсах.
В химическом синапсе можно выделить две важные части: это пресинапс и постсинапс. Пресинапсы расположены на концах длинного единичного отростка аксона, который может многократно разветвляться. Пресинапс представлен в виде небольшого уплотнения на кончиках, он относится к нейрону, который передаёт возбуждение. Постсинапсы расположены на коротких ветвистых отростках дендритах, они принадлежат нейрону, которому передается возбуждение.
В пресинапсе расположены везикулы, пузырьки с порциями вещества нейромедиатора. Именно в пресинапсах прежде была выявлена неравнозначность синапсов, пресинапсы различаются по количеству порций нейромедиатора хранящегося в нем, а также по количеству выделяемого нейромедиатора при его активации. Вес или силу пресинапса обозначим буквой S.
На поверхности мембраны постсинапса расположены рецепторы, которые реагируют на нейромедиатор. Количество этих рецепторов определяет, то насколько синапс будет чувствителен. То есть постсинапс также можно охарактеризовать некоторой характеристикой, весом. Обозначим этот вес буквой A. Конечно, можно эти два параметра представить как один W, определяющий силу всего синапса, но эти параметры при обучении должны настраиваться по-разному и они относятся всё-таки к разным нейронам.
Такое представление нейрона более реалистичное, но при этом оно сильно усложняется, так как теперь предстоит понять, как настраивать все эти параметры при обучении.
Хочу представить мою версию того по какому алгоритму происходит изменения в постсинапсах, то есть дендритных синапсах. Он основан на том, что биологическому нейрону требуется поддержание определённого уровня активности. Дело в том, что нейрон как клетка очень ресурсозатратна для организма, он не может самостоятельно питаться, за него это делают клетки-спутники, глии. Поэтому если нейрон по каким-то причинам не выполняет своих функций, то лучший вариант это избавиться от него в целях эффективности всего организма. При длительном отсутствии активаций в нейроне может запуститься процесс апоптоза, этот процесс активно поддерживают клетки-спутники, буквально разрывая и растаскивая нейрон на части. Поэтому чтобы выжить нейрону в условиях недостаточного источника активаций приходится развивать ветви дендритов, увеличивать чувствительность синапсов на дендритах и иногда даже мигрировать в другие участки (это происходит крайне редко и в определённых условиях), ну или производить спонтанную активность. Об этом свидетельствуют, к примеру, зрительные или слуховые галлюцинации у людей, чьи органы зрения или слуха подвергнуты депривации, или деградации вследствие старения. Об этом подробней пишет Оливер Сакс в своей книге «Человек, который принял свою жену за шляпу».
Оливер Сакс о галлюцинацияхПодвижные нейроны
С другой стороны, чрезмерная активность нейрона также может привести к его гибели. Активность нейрона — это очень сложный процесс, который требует чёткого выполнения множества механизмов, и любой сбой их выполнения приведёт к фатальным последствиям для всей клетки. Если источники активности избыточны, то нейроны начинают процесс деградации некоторых ветвей дендритов и снижения чувствительности своих постсинапсов. Таким образом, нейрон пытается найти некий баланс, в уровне своей активности, регулируя дендритные синапсы. Нейрон, выступающий как самостоятельный агент, действующий в своих интересах, обеспечивает удивительную адаптивность и пластичность всего мозга. Несмотря на парадокс эффективности нейрона, здоровый мозг работает очень слажено, и каждый нейрон играет свою роль. Нейроны зрительных зон коры головного мозга слепых людей благодаря этому механизму будут вовлечены в другие нервные процессы, не связанные с обработкой зрительных образов. А избыточность в количестве нервных клеток делает нервную систему очень надёжной и при повреждении некоторых участков нервной ткани, нейроны могу взять на себя функции и роли потерянных клеток.
Исходя из этой версии, дендритным синапсам отводится роль, влияющая на адаптивные качества всей нервной системы, а не какие-то логические функции которые и определяют когнитивные процессы.
Для изменений в пресинапсах синапсов аксона уже существует алгоритм, так называемое правило Хебба.
Если аксон клетки А находится достаточно близко, чтобы возбуждать клетку B, и неоднократно или постоянно принимает участие в ее возбуждении, то наблюдается некоторый процесс роста или метаболических изменений в одной или обеих клетках, ведущий к увеличению эффективности А, как одной из клеток возбуждающих В.
Hebb, D. O. The organization
of behavior: a neuropsychological theory. New York (2002) (Оригинальное издание — 1949) (
спасибо)
Привожу здесь полный текст правила Хебба потому, что существует его множество трактовок, меняющих его смысловое значение.
Как видим, акцент отводится нейрону, который передаёт возбуждение, то есть на синапсах аксона, а не дендритных синапсах принимающего нейрона. Пресинапс и постсинапс безусловно влияют друг на друга. К примеру, при дефиците активаций нейрон прежде будет увеличивать чувствительность того постсинапса, который чаще используется. А в случае необходимости снижения уровня активации будут прежде деградировать те постсинапсы, которые использовались реже всего. Это связано с важностью сохранения логики научения при адаптивных процессах.
Если мы хотим создавать искусственную нейронную сеть, то можно пренебречь адаптивными механизмами, всё-таки биологические системы более требовательны к экономии ресурсов каждым элементом, нежели искусственные модели.
Получается, что в основу компьютерных нейронных сетей положена модель нейрона, у которой акценты расставлены наоборот, нежели чем у биологического нейрона. Поэтому и не стоит рассчитывать на качественный результат в развитии этого направления. Но понимая эти проблемы, можно изменить ситуацию, нужно перестроить концепцию нейронных сетей заново, пересмотреть ее, заложив верный фундамент.
Анализ и Синтез
Нейрофизиология это молодая еще не зрелая наука, в ней нет ещё строгих фундаментальных законов подобно законам в физике, хоть в ней присутствуют большое количество теорий и фактов. Мне кажется, такими законами могут являться постулаты и принципы рефлекторной теории Ивана Петровича Павлова. Их можно сравнивать с законами Ньютона в физике. При создании новых теорий в нейрофизиологии мы должны задаваться вопросами: как в рамках нашей теории происходят и формируются рефлексы, а также как проявляются процессы синтеза и анализа.
Анализ и синтез требуют отдельного внимания. Эти понятия кажутся очень абстрактными, но это конкретные процессы которые протекают в нервной системе. И.П. Павлов считал, что анализ и синтез непрерывно протекают в коре головного мозга. Эти процессы являются базой для когнитивной деятельности. Я попытаюсь доступно донести, что это за процессы, это очень важно для того, чтобы воссоздать когнитивные процессы в нейронных сетях.
Синтез – это механизм объединения, обобщения различных признаков в один образ или действие.
Пример из экспериментов И.П. Павлова:
Специально подготовленному модельному животному – собаке, изолированной от иных внешних раздражителей и обездвиженной (заневоленой) при кормлении включают звук метронома, который ранее для неё был индифферентен, безразличен. После нескольких таких сочетаний у собаки выработается условный рефлекс, то есть на звук только метронома у модельного животного может вырабатываться желудочный сок, как при кормлении.
Анализ – это механизм выделения, ранжирования (предания рангов, значимости) каждого признака из ограниченного набора признаков.
Пример из работ И.П. Павлова:
Ранее обученному модельному животному, у которого сформирован условный рефлекс на звук метронома выработка желудочного сока, меняют условия эксперимента, теперь животные получает пищу при звуке метронома 120 ударов в минуту, а при звуке 160 ударов в минуту не будут подкреплять ничем. Сначала выученный пищевой условный рефлекс срабатывал на оба звука метронома, но стечением множества повторений, причём значительно большего количества раз, чем при эксперименте с синтезом, собака начинает различать эти два очень сходных раздражителя и перестает реагировать на звук метронома с частотой, которая не подкреплялась.
Давайте качественно сравним эти два когнитивных процесса.
Синтез – это относительно быстрый механизм потому, что требует малого количества примеров, в свою очередь, Анализу требуется значительно больших повторений. Синтез может протекать в некоторой пассивной форме, то есть здесь главное одновременное сочетание раздражителей или признаков, чтобы их можно было объединить. Для Анализа всегда требуется эмоциональное подкрепление или некая обратная связь, которая будет определять, каким признакам повысить или понизить важность, ранг. Синтез всегда предшествует Анализу, то есть признаки должны сначала быть объедены в группу, внутри которой уже может производиться ранжирование (процесс анализа).
Анализ всегда приводит к сокращению количества ошибок, так как придаёт данным дополнительную информативность: ранги или значимость отдельных признаков. Чистый Синтез создаёт множество ошибок, так как приводит к снижению информативности исходных данных, объединив, обобщив их в единые группы.
Теперь вооружившись пониманием этих процессов, проанализируем компьютерные нейронные сети на их наличие.
Обратное распространение ошибки – это чистый Анализ, это процесс ранжирования входов нейронов по результатам работы всей нейронной сети. Синтеза как механизма в нейронных сетях нет. У каждого нейрона изначально уже сформирована группа входов, эта группа никак не меняется в процессе научения по принципу Синтеза. Может возникнуть ложное представление присутствия Синтеза в нейронных сетях благодаря их возможности классификации данных, но это результат работы механизма Анализа над данными. Синтез это способность обобщения, слияния данных, а не объединения в группы по общим признакам.
Как следствие, высокой способности к обобщению, которая свойственна человеческому интеллекту, так сильно не хватает компьютерным нейронным сетям, и это компенсируется необходимостью использовать большое количество примеров при обучении.
Надо понимать, что у алгоритмов, в которых присутствует акцент на Анализе, всё равно будет существовать преимущество в определённых задачах. К примеру, в задаче поиска закономерностей в большом количестве данных, или распознавании лиц из миллионной базы с современными нейронными сетями не сравнится уже никакой алгоритм. Но в задаче, где требуется применять опыт, полученный на небольшом количестве примеров в различных и разнообразных ситуациях, к примеру, задача автопилота, то здесь требуются другие новые алгоритмы, основанные на Синтезе и Анализе, подобно тому, как это происходит в мозге.
Вместо заключения
То, чем я занимаюсь – это поиск новых алгоритмов, это создание моделей, основанных на вышеизложенных принципах. Я вдохновляюсь изучением биологического мозга. Этот путь проходит через череду неудач и заблуждений, но с каждой новой моделью я получаю ценный опыт и становлюсь ближе к своей цели. В будущем я постараюсь поделиться некоторым своим опытом на примере разбора конкретных моделей. Разберем, как на практике я применяю свои знания о нервной системе.
Сейчас я поставил себе задачу создать алгоритм нейронной сети, которая сможет различать рукописные цифры из стандартного набора MNIST, причём при обучении должно использоваться не более 1000 примеров и предъявлений. Результат я буду считать удовлетворительным при хотя бы 5% ошибке. Я уверен это возможно потому, что наш мозг делает нечто подобное. Напоминаю, что MNIST содержит 60 000 примеров обучения, которые для настройки нейронной сети могут предъявлять по несколько десятков раз.
С тех пор, как я стал писать о своих идеях и работе на хабре – гиктаймс, ко мне стали обращаться люди с похожими идеями и стремлениями, люди для кого мои статьи оказались вдохновляющими на собственные изыскания. На меня это также оказывает положительный мотивирующий фактор. Сейчас время возможностей, когда необязательно быть академиком или деятелем науки, чтобы создавать новые технологии или решать фундаментальные задачи. Один из таких искателей, как и я, Николай — он самостоятельно создаёт некую платформу для моделирования нервной системы простейшего животного, проект «Дафния». Проект открыт, и желающие могут подключиться.
In English on Medium: Comparison of the brain with a computer neural network
10.2: Организация тела
Что может делать человек-машина
Представьте себе машину, у которой есть все следующие атрибуты. Он может генерировать «ветер» со скоростью 166 км / час (100 миль / час) и передавать сообщения со скоростью более 400 км / час (249 миль / час). Он содержит насос, который перемещает около миллиона баррелей жидкости за свой срок службы, и имеет центр управления, содержащий миллиарды отдельных компонентов. Рассматриваемая машина может даже отремонтировать себя, если это необходимо, и не изнашиваться в течение столетия и более.У него есть все эти способности, но он состоит в основном из воды. Что это? Это человеческое тело.
Организация человеческого тела
Человеческое тело — сложная, высокоорганизованная структура, состоящая из триллионов частей, которые функционируют вместе для выполнения всех функций, необходимых для поддержания жизни. Биология человеческого тела включает структуру тела, изучение которой называется анатомией, и его функционирование, изучение которого называется физиологией.
Организацию человеческого тела можно рассматривать как иерархию возрастающих размеров и сложности, начиная с уровня атомов и молекул и заканчивая уровнем всего организма, который представляет собой отдельное живое существо. Вы можете увидеть промежуточные уровни организации на рисунке \ (\ PageIndex {2} \) и прочитать о них на рисунке и в следующих разделах.
Чтобы изучить самый маленький уровень организации, ученые рассматривают простейшие строительные блоки материи: атомы и молекулы.На химическом уровне организации эти два строительных блока рассматриваются как атомы, связывающиеся с образованием молекул с трехмерной структурой. Вся материя во Вселенной состоит из одного или нескольких уникальных чистых веществ, называемых элементами, знакомыми примерами которых являются водород, кислород, углерод, азот, кальций и железо. Самая маленькая единица любого из этих чистых веществ (элементов) — атом. Атомы состоят из субатомных частиц, таких как протон, электрон и нейтрон. Два или более атома объединяются в молекулу, такую как молекулы воды, белков и сахаров, которые содержатся в живых существах.Молекулы — это химические строительные блоки всех структур тела.
Клеточный уровень рассматривается, когда различные молекулы объединяются, чтобы сформировать жидкость и органеллы клетки тела. Клетка — это самая маленькая самостоятельно функционирующая единица живого организма. Даже бактерии, которые являются чрезвычайно маленькими, независимо живыми организмами, имеют клеточную структуру. Каждая бактерия — это отдельная клетка. Все живые структуры анатомии человека содержат клетки, и почти все функции физиологии человека выполняются в клетках или инициируются клетками.Человеческая клетка, такая как гладкомышечная клетка, обычно состоит из гибких мембран, которые окружают цитоплазму, клеточную жидкость на водной основе вместе с множеством крошечных функциональных единиц, называемых органеллами.
Рисунок \ (\ PageIndex {2} \): Эта диаграмма показывает уровни организации человеческого тела, от атомов до всего организма.Уровень ткани может быть изучен, когда сообщество подобных клеток формирует ткань тела. Ткань — это группа из множества похожих клеток (хотя иногда состоит из нескольких связанных типов), которые работают вместе для выполнения определенной функции.Например, когда многие гладкомышечные клетки объединяются как структурно, так и функционально, эти клетки вместе образуют слой гладкой мышечной ткани.
Орган — это анатомически отличная структура тела, состоящая из двух или более типов тканей, которая формирует уровень организации органа. Каждый орган выполняет одну или несколько определенных физиологических функций. Мочевой пузырь человека, состоящий из гладкой мышечной ткани, переходной эпителиальной ткани и нескольких типов соединительной ткани, выполняет функцию хранения мочи, вырабатываемой почками.
Уровень системы органов — это группа органов, которые работают вместе для выполнения основных функций или удовлетворения физиологических потребностей организма. В приведенном выше примере органа и почки, и мочевой пузырь являются органами мочевыделительной системы. Почки производят мочу, которая по мочеточникам перемещается в мочевой пузырь. Затем моча может покинуть мочевой пузырь и тело через уретру. Эти четыре органа работают вместе, чтобы избавить тело от жидких отходов.
Ячейки
Основными единицами структуры и функций человеческого тела, как и всех живых существ, являются клетки — удивительные 37 триллионов из них к тому времени, когда средний человек достигнет зрелого возраста! Каждая клетка выполняет основные жизненные процессы, которые позволяют организму выжить.Кроме того, большинство человеческих клеток специализируются по структуре и функциям для выполнения других специфических функций. Фактически, человеческое тело может состоять из 200 различных типов клеток, каждая из которых выполняет свою работу. На рисунке \ (\ PageIndex {3} \) изображены лишь некоторые из этих различных типов клеток человека. Ячейки на рисунке имеют очевидные различия в структуре, которые отражают их различные функции. Например, нервные клетки имеют длинные выступы, торчащие из тела клетки.Эти проекции помогают им передавать электрические сообщения другим клеткам.
Рисунок \ (\ PageIndex {3} \): здесь показаны некоторые из множества различных типов клеток человеческого тела. Каждый тип клетки специализируется на определенной роли в организме.Ткани
После клетки ткань является следующим уровнем организации в организме человека. Ткань представляет собой группу связанных клеток, которые выполняют аналогичную функцию. Существует четыре основных типа тканей человека: соединительная, эпителиальная, мышечная и нервная.Эти четыре типа тканей, показанные на рисунке \ (\ PageIndex {4} \), составляют все органы человеческого тела. Соединительная ткань состоит из клеток, взвешенных в матрице. Эпителиальная ткань в основном состоит из клеток, которые плотно упакованы в листы. Мышечная ткань также состоит из клеток с правильной подкладкой, а некоторые типы мышц, такие как скелетные мышцы, показанные на рисунке \ (\ PageIndex {4} \), содержат полосатость из-за организации мышечных волокон. Нервная ткань состоит из клеток с длинными расширениями.
Рисунок \ (\ PageIndex {4} \): четыре типа тканей: соединительная ткань, эпителиальная ткань, мышечная ткань, нервная тканьОрганы и системы органов
Рисунок \ (\ PageIndex {5} \): образец системы органов (пищеварительная система), показывающий органы внутри системы (рот, слюнные железы, пищевод, желудок, поджелудочная железа, толстый кишечник, тонкий кишечник, печень, желчный пузырь, аппендикс, прямая кишка, анус).После тканей органы представляют собой следующий уровень организации человеческого тела. Орган — это структура, состоящая из двух или более типов тканей, которые работают вместе, чтобы выполнять одну и ту же работу.Примеры человеческих органов включают сердце, мозг, легкие, кожу и почки. Человеческие органы организованы в системы органов, пищеварительная система показана на рисунке Рисунок \ (\ PageIndex {5} \). Система органов — это группа органов, которые работают вместе для выполнения сложной общей функции. Каждый орган системы выполняет часть более крупной работы.
Хорошо смазанная машина
Все органы и системы органов человеческого тела обычно работают вместе, как хорошо смазанная машина. Это потому, что они регулируются нервной и эндокринной системами.Нервная система контролирует практически всю деятельность организма, а эндокринная система выделяет гормоны, которые помогают регулировать эту деятельность. Функционируя вместе, системы органов снабжают клетки организма всеми необходимыми веществами и устраняют их отходы. Они также поддерживают температуру, pH и другие условия на уровне, необходимом для поддержания жизни.
Люди, а не машины создают смысл.
В термине «искусственный интеллект» (ИИ) слово «интеллект» является просто метафорой.Хотя ИИ может превосходить людей с точки зрения вычислительной способности, он не может придать никакого значения этим расчетам. Для аргентинского философа и психоаналитика Мигеля Бенасаяга сводить сложность живого существа к компьютерному коду является ошибкой — так же, как идея о том, что машины могут заменять людей, абсурдна.
Мигель Бенасаяг, интервьюировал Режис Мейран
Чем отличается человеческий интеллект от ИИ?
Живой интеллект — это не счетная машина.Это процесс, который выражает аффективность, телесность и заблуждение. У людей это предполагает наличие желания и осознания своей собственной истории в долгосрочной перспективе. Человеческий интеллект невозможно представить отдельно от всех других мозговых и телесных процессов.
В отличие от людей или животных, которые думают с помощью мозга, расположенного внутри их тела, который сам существует в окружающей среде, машина производит вычисления и прогнозы, не имея возможности придать им какой-либо смысл.Вопрос о том, может ли машина заменить человека, на самом деле абсурден. Именно живые существа создают смысл, а не вычисления. Многие исследователи ИИ убеждены, что разница между живым интеллектом и искусственным интеллектом количественная, тогда как она качественная.
Два компьютера в программе Google Brain, очевидно, могли общаться друг с другом на «языке», который они сами создали и который люди не могли расшифровать. Что ты думаешь об этом?
В этом нет никакого смысла.На самом деле, каждый раз, когда эти две машины запускаются, они систематически повторяют одну и ту же последовательность обмена информацией. И это не язык, на нем не общаются. Это плохая метафора, вроде той, в которой говорится, что замок «распознает» ключ.
Это похоже на то, когда некоторые люди говорят, что они «дружат» с роботом. Есть даже приложения для смартфонов, которые якобы позволяют «поболтать» с одним из них. В фильме Спайка Джонза « Ее » (2013) мужчине задают ряд вопросов, которые позволяют составить карту его мозга.Затем машина синтезирует голос и вырабатывает ответы, которые вызывают у мужчины чувство влюбленности. Но разве можно завести романтические отношения с роботом? Нет, потому что любовь и дружбу нельзя свести к набору нейронных передач в мозгу.
Любовь и дружба существуют за пределами личности и даже за пределами взаимодействия двух людей. Когда я говорю, я участвую в том, что у нас есть на общем языке. То же самое и с любовью, дружбой и мыслью — это символические процессы, в которых участвуют люди.Никто не думает только за себя. Мозг использует свою энергию, чтобы участвовать в мышлении.
Тем, кто считает, что машина может думать, мы должны ответить, что было бы удивительно, если бы машина могла думать, потому что даже мозг не думает!
По вашему мнению, сокращение живого существа для кодирования является главным недостатком ИИ?
Действительно, некоторые эксперты по искусственному интеллекту настолько поражены своими техническими достижениями — как маленькие мальчики, увлеченные своими строительными играми — что они упускают из виду общую картину.Они попадают в ловушку редукционизма.
В 1950 году американский математик и отец кибернетики Норберт Винер написал в своей книге « Использование человека людьми », что однажды мы сможем «телеграфировать человеку». Четыре десятилетия спустя трансгуманистическая идея «загрузки разума» была построена на той же фантазии — о том, что весь реальный мир можно свести к единицам информации, которые можно передавать от одного устройства к другому.
Идея о том, что живые существа можно моделировать в виде единиц информации, также встречается в работе французского биолога Пьера-Анри Гуйона, с которым я опубликовал книгу интервью Fabriquer le vivant? [Производство живого? 2012].Гуйон рассматривает дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) как платформу для кода, который может быть перенесен на другие платформы. Но когда мы думаем, что живые существа можно смоделировать в единицах информации, мы забываем, что сумма единиц информации — это не живое существо, и никто не заинтересован в проведении исследований того, что не может быть смоделировано.
Принятие во внимание того, что невозможно смоделировать, не приводит нас к идее Бога или обскурантизма, что бы некоторые ни думали. Принципы непредсказуемости и неопределенности можно найти во всех точных науках.Вот почему стремление трансгуманистов к полному знанию является частью совершенно иррационального, технофильского дискурса. Своим значительным успехом он обязан своей способности утолить метафизическую жажду наших современников. Трансгуманисты мечтают о жизни, свободной от всякой неопределенности. Однако в повседневной жизни, как и в исследованиях, нам приходится иметь дело с неопределенностями и случайностью.
Согласно теории трансгуманизма, однажды мы станем бессмертными благодаря ИИ.
В нашей нынешней постмодернистской суматохе, когда мы больше не задумываемся об отношениях между вещами, где преобладают редукционизм и индивидуализм, трансгуманистическое обещание занимает место Платоновской пещеры.Для греческого философа настоящая жизнь должна была быть найдена не в физическом мире, а в мире идей. Для трансгуманистов двадцать четыре века спустя реальная жизнь заключается не в теле, а в алгоритмах. Для них тело — это всего лишь фасад — из него нужно извлечь набор полезной информации, а затем избавиться от его естественных дефектов. Так они намерены достичь бессмертия.
На научных конференциях у меня была возможность встретиться с несколькими членами Университета сингулярности [больше мозговым центром, чем университетом, базирующимся в Кремниевой долине в Соединенных Штатах, с неписаным трансгуманистическим подходом], которые носили медальоны на шее с просьбой о том, чтобы , если они умерли, их головы следует заморозить.Я вижу в этом появление новой формы консерватизма, хотя я тот, кто производит впечатление биоконсерватора, потому что я противник трансгуманистической философии. Но когда мои критики называют меня реакционером, они используют те же аргументы, что и политики — которые утверждают, что занимаются модернизацией или реформированием, подрывая социальные права страны и называя консерваторами всех тех, кто хочет защитить свои права!
Гибридизация людей и машин уже стала реальностью.Это тоже трансгуманистический идеал.
Мы даже не начали понимать живые существа и гибридизацию, потому что сегодня биологическая технология все еще не учитывает почти всю жизнь, которую нельзя свести только к тем физико-химическим процессам, которые можно моделировать. При этом живые существа уже были гибридизованы с машиной, и это, безусловно, будет даже в большей степени с продуктами, созданными на основе новых технологий.
Есть много машин, с которыми мы работаем и которым мы делегируем ряд функций.Но все ли они необходимы? В этом весь смысл. Я работал над кохлеарными имплантатами и культурой глухих. Есть миллионы глухих людей, которые заявляют о своей культуре, которая не пользуется достаточным уважением, и которые отказываются от кохлеарного имплантата, потому что они предпочитают выражаться на языке жестов. Является ли это нововведение, способное сокрушить культуру глухих, прогрессом? Ответ по сути не очевиден.
Прежде всего, мы должны обеспечить, чтобы гибридизация происходила с уважением к жизни.Однако сегодня мы наблюдаем не столько гибридизацию, сколько колонизацию живого машинами. Поскольку они экстернализируют свои воспоминания, многие люди больше ничего не помнят. У них проблемы с памятью, которые не являются результатом дегенеративных патологий.
Возьмем, к примеру, случай с системами глобального позиционирования (GPS). Исследования водителей такси проводились в Париже и Лондоне, обоих городах-лабиринтах. В то время как лондонские таксисты ориентируются самостоятельно, парижане систематически используют свои устройства GPS.По прошествии трех лет психологические тесты показали, что подкорковые ядра, отвечающие за отображение времени и пространства, атрофировались в парижской выборке (атрофии, которые, безусловно, были бы обратимы, если бы человек отказался от этой практики). Они были поражены формой дислексии, которая мешала им преодолевать путь во времени и пространстве. Это колонизация — область мозга атрофирована, потому что ее функция была делегирована и ничем не заменена.
Что вас беспокоит больше всего?
Меня беспокоит чрезмерный успех логики нововведений.Представление о прогрессе потерпело неудачу. На смену ей пришла идея инновации, которая представляет собой нечто совершенно иное — она не содержит ни отправной, ни конечной точки, и не является ни хорошей, ни плохой. Следовательно, это должно быть подвергнуто критическому сомнению. Использование компьютерного текстового процессора намного мощнее, чем пишущая машинка Olivetti, которую я использовал в 1970-х — для меня это прогресс. Но, наоборот, в каждом смартфоне есть десятки приложений, и мало кто серьезно задается вопросом, сколько из них им действительно нужно.Мудрость заключается в том, чтобы держаться подальше от увлечения, вызываемого развлечениями, и эффективности новых технологий.
Кроме того, в дезориентированном обществе, утратившем свои великие нарративы, трансгуманистический дискурс очень тревожит — он инфантилизирует людей и без скептицизма рассматривает перспективы технологий. На Западе технология всегда относилась к идее преодоления ограничений. Еще в семнадцатом веке французский философ Рене Декарт, для которого тело было машиной, вообразил возможность мысли без тела.Человеческое искушение мечтать о том, что с помощью науки мы освободимся от наших тел и их ограничений — то, чего, по мнению трансгуманистов, они наконец-то добьются.
Но мечта о всемогущем посторганическом человеке, не знающем границ, имеет для общества всевозможные серьезные последствия. Мне кажется, что это следует даже рассматривать как зеркальное отражение подъема религиозного фундаментализма, который скрывается за предполагаемыми естественными ценностями людей. Я рассматриваю их как две иррациональные формы фундаментализма в состоянии войны.
Фото: Jordi Isern
Эффективная педагогическая стратегия содействия активному обучению и образованию в области STEM
Человеческое тело — замечательная биологическая машина, поддерживаемая взаимозависимыми системами организма и организованными биохимическими реакциями. Эволюция воздействовала на людей на протяжении сотен тысяч лет, однако нынешние темпы технологических и социальных изменений радикально повлияли на наш образ жизни и выявили возможные человеческие слабости. Это поднимает вопрос, можно ли улучшить работу природы.Мы предлагаем двусторонние взгляды в качестве обоснования необходимости изменения человеческого тела. Затем мы описываем педагогическую стратегию, с помощью которой студенты изучают морфологические и анатомические структуры и физиологические функции систем человеческого тела и их соответствующих органов и частей. Студенты выбирают свою любимую систему или орган для перепроектирования, чтобы оптимизировать эффективность анатомической структурной, физиологической функции и / или эстетической и функциональной морфологии; редизайн, который может привести, например, к снижению риска диабета, сердечного приступа и / или инсульта.Благодаря групповой работе и взаимодействию (студенческие группы соревнуются за престижную «внутреннюю» патентную награду) студенты активно участвуют в процессе обучения, чтобы понять роль дизайна в эффективности, функциональности и уязвимости системы человеческого организма к болезням. .
1. Введение
Чтобы сохранить нам жизнь и жизнь, человеческое тело на протяжении всей жизни выполняет миллионы сложных функций. Например, всего за 60 секунд человеческое тело делает 15 вдохов, его сердце бьется 70 раз, его слезные протоки увлажняют глаза 25 раз, его мозг проводит шесть миллионов химических реакций, его костный мозг производит 180 миллионов клеток крови, его кожа линяет. 10 000 частиц кожи и около 300 миллионов ее клеток погибают и / или замещаются [1, 2].Кроме того, человеческому организму удается «извлекать комплексные ресурсы, необходимые для выживания, несмотря на резко меняющиеся условия, и в то же время отфильтровывать множество токсинов» [3, 5].
Но, как спросили Нессе и Уильямс [5]:
Почему в теле такого изысканного дизайна есть тысяча недостатков и слабостей, которые делают нас уязвимыми для болезней? Если эволюция путем естественного отбора может формировать сложные механизмы, такие как глаз, сердце и мозг, почему она не сформировала способы предотвращения близорукости, сердечных приступов и болезни Альцгеймера? Если наша иммунная система может распознавать и атаковать миллион чужеродных белков, почему мы все еще болеем пневмонией? Если спираль ДНК может надежно закодировать планы взрослого организма с десятью триллионами специализированных клеток, каждая на своем месте, почему мы не можем вырастить замену поврежденному пальцу? Если мы можем прожить сотню лет, почему не двести? (стр.3)
Ричард Докинз [4] утверждает в своей хорошо прочитанной книге величайшее шоу на земле , что животные выглядят элегантно устроенными, как будто они следуют чертежам инженера. Но когда животное открывается на столе для препарирования, это больше похоже на беспорядок, чем на архитектурный замысел. В качестве поучительного обучающего упражнения Докинз предлагает новую конструкцию артерий, выходящих из сердца: «Я полагаю, результатом будет что-то вроде выхлопного коллектора автомобиля… вместо беспорядочного беспорядка, который мы на самом деле видим, когда открываем настоящий сундук» ( п.370-371).
Поскольку многое из того, что мы считаем человеческими способностями или интеллектом, происходит в большей степени от того, как устроено тело, а не от большого размера нашего мозга [10], в этой педагогической стратегии обучения студенты исследуют человеческое тело, изучая морфологические и анатомические структуры, а также физиологические функции систем организма человека, его органов и частей. Затем они выбирают свою собственную «любимую» систему тела, орган и / или часть системы для перепроектирования, чтобы оптимизировать эффективность анатомической структуры, физиологических функций и / или эстетической и функциональной морфологии.Посредством групповой работы и взаимодействия студенты активно участвуют в процессе обучения, чтобы (1) узнать о человеческом теле от клеточного уровня до уровня органов и всей системы, (2) понять роль дизайна в эффективности и функциональности система человеческого тела, (3) улавливать и сохранять новую информацию, и (4) применять то, что было изучено в различных ситуациях.
2. Человеческое тело
Человеческое тело — это замечательная биологическая машина, которая поддерживается и поддерживается хорошо структурированными и взаимозависимыми системами организма и их уникальными органами, каждый из которых по-разному способствует биологическому, физическому, умственному и эмоциональному развитию. здоровье человека.В нем около ста триллионов клеток, 60 миль кровеносных сосудов, трехфунтовый мозг с 50-100 миллиардами нервных клеток и удивительной способностью к мышлению, а также 2,5 миллиарда сердечных сокращений за время жизни в 75 лет, и это лишь некоторые из них. уникальные характеристики [2]. Однако, несмотря на то, что тысячи лет эволюции адаптировали человеческое тело к жизни на Земле, были подняты вопросы относительно того, можно ли улучшить человеческое тело, чтобы оно отвечало, например, новым вызовам, связанным с последствиями нынешней окружающей среды и окружающей среды. образ жизни [11].Это факт, что человеческое тело представляет собой чудо сложности не только в целом, но и на других уровнях организации, включая системы организма, органы, ткани и клетки. Также фактом является то, что человеческое тело «художественно красиво и достойно всех чудес и изумлений, которые оно вызывает» [12]. Но, как указал Джон Лонг [10] в своей недавней книге Устройства Дарвина , эволюция не происходит. всегда способствует лучшему дизайну. Например, с точки зрения инженера, «это сложная сеть костей, мышц, сухожилий, клапанов и суставов, которые прямо аналогичны ошибочным шкивам, насосам, рычагам и шарнирам в машинах» [12] .Кроме того, он также не совсем эффективен, когда дело касается функционирования и механизмов энергосбережения из-за внутренней конструкции нескольких частей, отсутствия функционального назначения в некоторых из его частей и / или неподходящего расположения ряда его частей или избыточности части. Например, известно, что близость к источнику топлива является фундаментальным принципом эффективного промышленного дизайна, но, тем не менее, многие важные органы человеческого тела расположены далеко от основного источника топливной энергии, например, в случае мозга и человеческого тела. сердце [13].Другой пример: если ресурсы (например, кальций) для создания наших зубов идут на создание меньшего количества зубов, скажем, 21 вместо 32, у людей может быть меньше проблем с кариесом и разрушенных зубов из-за инфекции, вызванной мутантной бактерией Streptococcus . [14]. Остальной кальций можно использовать для поддержки костей и уменьшения переломов костей, которые являются серьезной проблемой для многих пожилых людей. Кроме того, как теперь понимается, многие части человеческого тела обладают ограниченной способностью к регенерации, что означает, что они имеют ограниченную способность к репликации и / или самовосстановлению посредством деления клеток.
На протяжении всей истории люди восхваляли человеческое тело как шедевр природы, а также предлагали несколько улучшений по разным причинам и проблемам. Например, более 45 лет назад Лестер Дэвид [13] опросил группу ученых, инженеров, дизайнеров и художников, чтобы узнать, что они могут предложить для улучшения человеческого тела. Он опубликовал свое исследование в статье под названием « Наука переделывает человеческое тело, » в 1956 году в журнале Modern Mechanix Illustrated Journal. Ссылаясь на Джорджа М.Роуленд-младший, один из бывших президентов Burdick-Rowland Associates, известной в то время в стране фирмы промышленных дизайнеров, Дэвид [13] написал, что
«С точки зрения дизайнера, я не вижу причин для разъединенный позвоночник. Почему бы не заключить позвоночник в трубку из полугибкого хряща? Таким образом, позвоночник человека будет сплошной колонной со значительно увеличенной нагрузочной способностью. Кроме того, жизненно важные нервы позвоночника будут лучше защищены от травм.Человек не смог бы крутиться и поворачиваться, как сейчас, но полугибкость цилиндра позволила бы достаточно изгибаться для любых обычных целей ». [13, с. 53]
Г-н Роуленд также спросил: «Разве мозг не может быть расположен в грудной полости, рядом с сердцем, а не в голове? Есть еще один фактор — если бы мозг находился в грудной клетке, он был бы гораздо менее уязвим для травм »[13, с. 53]. Хотя это интересная идея, она, вероятно, слишком далеко от наших органов чувств, чтобы «работать».
Редизайн человеческого тела также был предметом выступления Рэя Курцвейла на конференции «Будущее жизни» журнала Time в 2003 году. В этом выступлении и в статье с тем же названием он обсудил свое видение версии 2.0 человеческого тела. Он объяснил, что наши тела эволюционировали в совсем другую эпоху, в разных условиях окружающей среды. Например,
Наши пищеварительные процессы, в частности, оптимизированы для ситуации, которая кардинально отличается от той, в которой мы оказались.Для большей части нашего биологического наследия была высокая вероятность того, что следующий сезон кормодобывания или охоты (а в течение короткого, относительно недавнего периода, следующий сезон посадки) может быть катастрофически скудным. Так что нашему телу было разумно удерживать все возможные калории. Сегодня эта биологическая стратегия крайне контрпродуктивна. Наши устаревшие метаболические программы лежат в основе нашей современной эпидемии ожирения и подпитывают патологические процессы дегенеративных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и диабет II типа….По мере того, как мы изучаем принципы работы человеческого тела и мозга, мы скоро сможем разрабатывать гораздо более совершенные системы, которые будут более приятными, прослужат дольше и будут работать лучше, не подверженные поломкам, болезням и т. Д. старение. [3, разделы 6 и 9]
Человеческое тело также было темой ряда радио- и телешоу и программ, таких как Science Channel, National Geographic Channel и Discovery Channel, и это лишь некоторые из них.Например, в 2008 году канал Science Channel сообщил о «10 самых бесполезных частях тела», задав вопрос, действительно ли может существовать бесполезный орган? Он даже предложил своим зрителям опрос, чтобы проверить их собственные знания, попросив их назвать десять самых бесполезных частей тела. Science Channel предоставил следующий список бесполезных частей тела: мужские соски, аппендикс, зубы мудрости, мышцы arrector pili, копчик, миндалины, аденоиды, пазухи, волосы на теле и Plica semilunaris. На самом деле это остатки эволюции, которые у многих живых видов рассматриваются как признаки более раннего образа жизни, включая физические особенности, внутренние процессы и аспекты поведения [15].
Хотя Science Channel может объявить определенные органы бесполезными, важно отметить, что «бесполезный» не обязательно означает то же самое, что и след эволюции. Реликвия — это след чего-то, что существовало много поколений назад. Что-то может быть полезно и все еще остается следом, пока польза значительно уменьшается. Например, соски у мужчин не являются следом, поскольку они не появлялись у предков, у которых были функциональные мужские соски. С другой стороны, волосы на теле человека, которые являются пережитком, не бесполезны, потому что, как известно, они помогают в обнаружении эктопаразитов.Таким образом, учащиеся должны знать, откуда поступает их информация. Они должны знать разницу между первичными (исходными) и вторичными источниками информации, и что Science Channel, скорее всего, предоставляет вторичную информацию через свои программы.
Но все же это вызывает вопросы, например, почему они все еще существуют, если у них нет, как некоторые полагают, более важных функций для человеческого тела? Сможем ли мы выжить без их физического присутствия как части человеческого тела? Поскольку некоторые эволюционные процессы протекают медленно и требуют времени, неужели эти части уже уходят, и мы просто не можем этого распознать? Почему эволюционные процессы не устранили их к настоящему времени или физиологически не включили их, чтобы принести пользу другим частям человеческого тела? или, возможно, потому, что мы еще не знаем их основной функции, мы должны предположить, что у них ее нет? (Хотя такое предположение было бы очень нехарактерным для научного мышления.)
Изменение человеческого тела также было темой научной программы BBC Radio 4 FM, которая транслировалась в период с января по июль 2006 года. В восьми аудиоэпизодах Лен Фишер задавался вопросом, как бы работало тело, если бы мы попытались переделать себя ( см. Приложение A). Лен Фишер интересовался почти всем, что есть в человеческом теле и на нем, включая кожу, в которой мы находимся, и кишки, которые у нас есть. Фишер спросил, может ли наука придумать что-то лучшее, например, запасную пару рук, глаза на затылке или суперслышание, зрение и прикосновение.Но как добавление «запасных частей тела» повлияет на другие органы и системы организма, например, на мозг?
Люди были очарованы человеческим телом в течение многих лет и размышляли над множеством способов его улучшения и изменения. В конце концов, как утверждают Нессе и Уильямс [5] в своей книге, , почему мы болеем, в теле такого изысканного дизайна, все еще существует тысяча недостатков и слабостей, которые делают нас уязвимыми перед болезнями и мешают нам легко жить. более ста лет.Это заставляет нас задать следующий вопрос: если бы вы могли изменить дизайн человеческого тела, что бы вы изменили? Это то, что делает «изменение человеческого тела» стоящим учебным занятием. Он предлагает студентам ответить на вопрос, который является одновременно личным и актуальным, позволяя студентам установить связь между предметом и своим собственным опытом, помогая студентам получить более глубокое понимание человеческого тела. Устанавливая соответствующие связи, сравнивая различные точки зрения, исследуя причинно-следственную связь и задавая сложные вопросы, учащиеся мотивируются участвовать в процессе обучения.Как утверждают Бойлс и Контадино [16], «академическая борьба начинается, когда у студентов нет крючков, с помощью которых можно связать предоставленную информацию с их собственным опытом и сильными сторонами» (стр. 35). Однако при «изменении конструкции человеческого тела» все студенты имеют необходимые предварительные знания о человеческом теле (в конце концов, все они обладают телом и испытали на себе преимущества и проблемы, которые с ними связаны) и могут получить доступ к информации. учатся.
Это также полезное занятие, потому что оно высвобождает мысли и воображение учащихся.Это позволяет им применить то, что они узнали о человеческом теле, и предложить хорошо продуманные конструкции и эффективные решения для достижения потенциально оптимальной эффективности и функциональности для выбранной ими системы или органа. Применяя свои знания о человеческом теле в новой ситуации, они участвуют во всех областях обучения Маккормака и Ягера [9], от приобретения знаний до применения и связи (см. Приложение B).
3. Учебное задание
Цель этого учебного задания — помочь учащимся понять цель дизайна, взаимосвязь дизайна и функции и то, как изменение конструкции данной части, органа или системы тела может повлиять на эффективность этой конкретной части, а также всей системы и всего живого тела.Биологический дизайн играет жизненно важную роль в выживании живого организма и поддержании гомеостаза на протяжении всей жизни человека (и, возможно, играет роль в выживании вида). Кроме того, мы хотим, чтобы учащиеся осознали, что в отличие от дизайна человека, эволюция, которая представляет собой постепенный процесс химических и физических изменений, «никогда не начинается с полностью пустой чертежной доски, а [вместо этого работает] путем изменения уже существующих вещей» ([ 15], стр. 10), поэтому эволюция не всегда способствует лучшему дизайну [10].Это просто потому, что, как утверждает Докинз [4], эволюция — это генетически контролируемое изменение программы развития данного живого существа.
Вторая цель — активно вовлекать студентов в групповую работу и взаимодействие не только для достижения большей глубины понимания, но также для сохранения новой информации и применения того, что было изучено в другой ситуации, а именно, изменение их выбранная система или орган человеческого тела. Как утверждал Хоутон [17], глубокое обучение, которое способствует пониманию и применению в жизни, включает связывание новых идей с уже известными концепциями и принципами.Это приводит к прочному пониманию и сохранению усвоенных концепций, чтобы их можно было использовать для решения проблем в незнакомом контексте или для оценки потенциальных решений сложных проблем.
Для начала студенты объединяются в группы и получают задание по изменению конструкции части тела, органа или системы тела с целью получения патента на свою конструкцию. Дизайн каждой команды оценивается командой «патентных судей», которые определяют победивший дизайн. Каждой группе предлагается (i) выбрать одну из 11 систем человеческого тела для исследования и изучения, (ii) определить и описать в письменной форме морфологическую и анатомическую структуру, а также механическую и физиологическую функцию данной выбранной системы и ее основных органов и частей, учащиеся должны (i) включить описание конкретной функции всей системы, а также каждого органа и части внутри системы, (ii) определить взаимосвязь внутри структуры, (iii) использовать, заполнить и отправить Таблицу 1 в качестве сводного информационного бюллетеня. Кроме того, студентов затем просят: (i) определить часть, орган или систему всего тела для изучения и перепроектирования, (ii) разработать убедительный аргумент в пользу того, что их перепроектирование лучше и более эффективен для достижения своего основного функционального назначения.(Учащиеся используют таблицы 2 и 4, чтобы помочь им систематизировать информацию о сравнении и построении первоначального дизайна и изменения дизайна выбранной системы тела, органа или части.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



